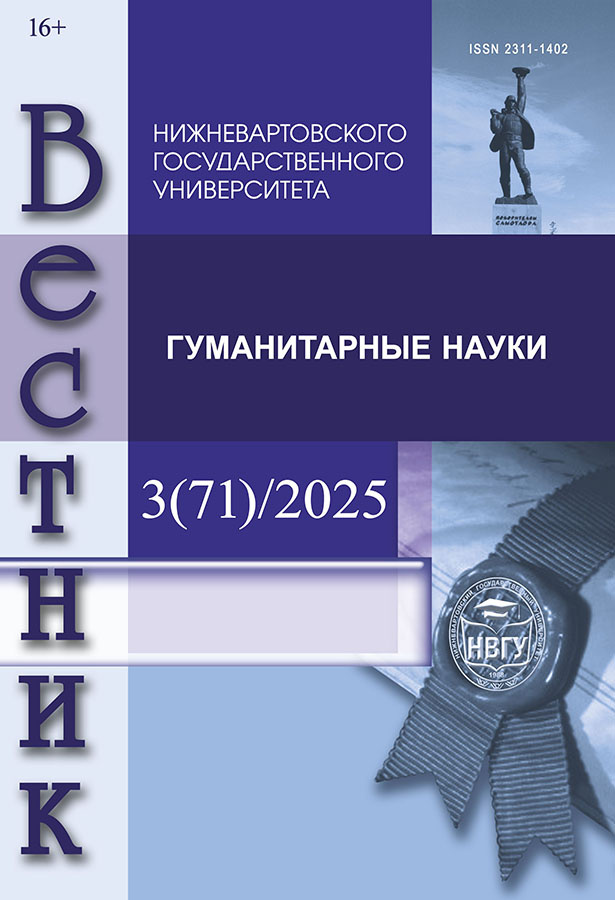Социопортрет анархической региональной элиты России в начале XX века
- Авторы: Пьяных Н.И.1
-
Учреждения:
- Средняя общеобразовательная школа № 3
- Выпуск: № 3 (2025)
- Страницы: 43-53
- Раздел: Отечественная история
- URL: https://vestnik.nvsu.ru/2311-1402/article/view/679848
- DOI: https://doi.org/10.36906/2311-4444/25-3/04
- ID: 679848
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Цель исследования – выявление социометрических показателей анархической региональной элиты России в начале XX века. К задачам исследования относилась идентификация представителей анархической провинциальной политической элиты, определение факторов, повлиявших на коллективный социопортрет элитарных региональных анархистов, анализ социального состава членов провинциальной элиты российского анархизма, воссоздание ее облика на фоне коллективного портрета участников анархического движения в России в начале XX века в целом. К критериям элитарности отнесено вхождение в руководство анархистских групп, исполкомов региональных советов, комитетов в 1917 году. В качестве источника исследования использована электронная просопрографическая база данных «Партийно-политическая элита провинциальной России (1890–1920-е гг.)», содержащая персональные данные на каждого представителя элиты: пол, возраст, социальное происхождение и т. д. Методологической основой исследования являлись принципы научности, историзма, и объективности. В результате исследования были определены различные факторы влияния на коллективный портрет элитарной группы (юношеский максимализм, национальные ограничения, социальные условия). Автор пришел к выводу, что представителями региональной элиты анархистского движения в России в начале XX века были в основном мужчины-евреи в возрасте 25–45 лет, вступившие в политику в возрасте 20 лет на рубеже XIX–XX веков, происходившие и принадлежавшие к низшим слоям российского общества, получившие невысокий уровень образования. Был сделан сравнительный анализ облика элитарной группы с имеющимся в историографии социальным составом анархистских организаций в целом. На фоне обобщенного портрета российского анархиста представители элиты выглядели более возрастными, образованными, имевшими больше политического опыта. Новизна исследования заключается в том, что впервые в исторической науке на основе электронной базы данных на общероссийском уровне был создан социопортрет анархической провинциальной элиты в начале XX века.
Ключевые слова
Полный текст
Изучение истории политических партий и движений в России в конце XIX – начале XX вв. при наличии многочисленных исследований еще далеко до завершения, особенно на региональном уровне. История анархической провинциальной партийно-политической элиты России является актуальной темой, еще не разработанной исторической наукой. Продолжая серию публикаций, в которых реконструируется демографический состав региональной элиты разных политических партий [18, с. 66-75; 20, с. 67-72; 21, с. 19-29; 22, с. 117-122], эта статья посвящена социометрическим показателям анархической региональной элиты России в начале XX века.
Данное исследование основано на электронной базе данных «Партийно-политическая элита провинциальной России 1890–1920-е гг.», сформированной коллективом под руководством доктора исторических наук, профессора ТГУ им. Г.Р. Державина Л.Г. Протасова. В составлении банка данных и публикации некоторых результатов его анализа непосредственное участие принимал автор настоящей статьи.
В базе данных содержится информация о 21 выдающемся (элитарном) анархисте. Их количество является небольшим на фоне суммарной численности последователей М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина в России начала XX в., которая по оценкам историков не превышала 10 тыс. человек [10, с. 118, 253]. Принадлежность их к анархической региональной партийно-политической элите России несомненна, так как они, несмотря на силлогизм их доктрины о полном равенстве людей, были руководителями анархистских групп, ревкомов, входили в исполкомы региональных советов.
На каждого представителя анархической провинциальной элиты имеются персональные данные, такие как место и год рождения, возраст, пол, этническая принадлежность, социальное происхождение, образование, профессия, род занятий, революционный, тюремный и ссыльнокаторжный стаж. Эта информация позволяет в целом составить социопортрет анархической элиты провинциальной России в начале XX века.
Основными методами исследования были:
- просопографический (позволил создать электронную базу данных, собрать характеристики представителей анархической элиты: дату, место рождения, социальное происхождение и т. д.);
- анализ (с его помощью были выявлены и проанализированы причины политической социализации участников изучаемой группы);
- синтез (обобщена полученная историческая информация);
- ретроспективный (дал возможность понимать события, факторы, обусловившие коллективный социопортрет провинциальной элиты);
- сравнительно-исторический (коррелированы полученные в результате научного исследования данные с уже имеющимися в историографии сведениями).
По полу абсолютное большинство элитарных членов провинциальной политической элиты анархистского движения были мужчинами, что соответствовало патриархальному типу российского социума в начале XX века. Видной деятельницей группы анархистов-коммунистов в Северо-Западном крае, совершившей покушение на екатеринославского губернатора А.М. Клингенберга, была Ф.Е. Ставская. О.И. Таратута являлась одной из организаторов «Южной боевой группы анархистов-коммунистов» [19, с. 604]. В целом половое распределение выдающихся региональных деятелей анархического движения коррелировалось с традиционным обществом России рубежа XIX–XX веков.
Таблица 1. Распределение анархической региональной элиты по полу [Составлено по: 2–5, 7–9, 11–17, 19, 23–34]
Пол | Кол-во | % |
Мужской | 19 | 90,48 |
Женский | 2 | 9,52 |
Всего | 21 | 100,00 |
Политическим деятелем человек становился в определенном возрасте. Самыми возрастными элитарными анархистами (оба 1868 года рождения) были примыкавший к Московской федерации анархических групп А.М. Атабекян [4, с. 5] и член Кронштадтского Совета рабочих и солдатских депутатов И.С. Блейхман [11, с. 474]. Первый из них стал социал-демократом еще на рубеже 1880–1890-х годов, время широкого распространения марксизма в России, второй – последователем П.А. Кропоткина в 1904 году.
Более трети элитарных анархистов относились к категории зрелых людей, появившихся на свет в 1870-е годы. Они включились в политическую деятельность в конце XIX в., когда произошел голод 1891–1892 гг., вызвавший общественный резонанс и подъем революционного движения. С 1895 г. антиправительственной деятельностью занимался редактор видной анархической газеты «Голос труда» А.Г. Таратута [24, с. 137].
Около половины провинциальных активистов находились в возрасте 25–35 лет. Уроженцы 1880-х гг., они стали анархистами в первое десятилетие XX века. Факторами их политической социализации были ужесточение правительственной политики в сфере высшего образования (1899 г.), рост рабочего движения, связанный с экономическим кризисом, воспринимавшаяся некоторыми подданными как «несправедливая» война с Японией, кровавые события 1905–1907 гг. и революционная стихия в целом. С 1903 г. главой Кронштадтской группы анархистов-синдикалистов был участник Революции 1917 г. Е.З. Ярчук [25, с. 1085]. В 1882 г. родился один из организаторов Петроградского Союза анархо-синдикалистской пропаганды В.М. Волин, умерший в эмиграции [13, с. 604].
Наиболее молодыми участниками провинциальной анархистской элиты начала XX в. являлись видный активист анархо-коммунизма в Одессе, Кишиневе, Херсоне, руководивший Комитетом по сельскохозяйственным заготовкам при СНК СССР в середине 1930-х гг. И.М. Клейнер (1893 года рождения [33, с. 956]) и секретарь Штаба революционных организаций Иваново-Вознесенска писатель Д.А. Фурманов (1891 года рождения [28, с. 594]). Они вступили в антиправительственное движение в 1910-е гг., эпоху «империалистической» Первой мировой войны и Великой российской революции.
Региональные элитарные деятели анархического движения находились в возрасте 25–45 лет, приобщившись к политике в 20 лет. Юношеский максимализм, неустойчивость социальных ориентиров, не полностью сформировавшаяся личность способствовали выбору ими антиэтатистского мировоззрения и использованию экстремистских методов и способов решения общественных проблем в стране.
Таблица 2. Возрастная структура элитарных анархических деятелей [Составлено по: 2, 4-5, 7-9, 11-17, 19, 23-34]
Возраст | Кол-во | % | Годы рождения | Кол-во | % | Годы вступления в политическую деятельность | Кол-во | % |
46-55 | 2 | 9,52 | 1860-е | 2 | 9,52 | 1890-е | 8 | 38,10 |
36-45 | 8 | 38,10 | 1870-е | 8 | 38,10 |
|
|
|
25-35 | 10 | 47,62 | 1880-е | 9 | 42,86 | 1900-е | 11 | 52,38 |
До 25 лет | 1 | 4,76 | 1890-е | 2 | 9,52 | 1910-е | 2 | 9,52 |
Всего | 21 | 100,00 | Всего | 21 | 100,00 | Всего | 21 | 100,00 |
По этническому составу половина элитарных деятелей были евреями, родившимися в юго-западных и западных регионах страны, в «черте оседлости». Их представительство следует интерпретировать желанием ликвидировать национальные ограничения радикальнейшим методом. Отсутствие у евреев на протяжении двух тысячелетий государства и проживание общинами могло соответствовать пропагандировавшейся анархизмом идее самоуправляющихся коммун. К семитам относились руководитель группы анархистов-«чернознаменцев» в Киеве И.С. Гроссман, Ф.Е. Ставская.
Каждый третий активист являлся великороссом, что объясняется традициями векового российского бунтарства, близкого анархизму, и политической культуре «освободительного» движения XIX в., включавшего течение, приверженное учению политического безвластия.
Среди «инородцев» были единичные представители малороссов (руководитель Гуляй-Польского ревкома Н.И. Махно), армян (А.М. Атабекян), грузин (член группы иркутских анархистов и военной секции местного Совета рабочих и солдатских депутатов Н.А. Каландаришвили) и чехов (один из организаторов кружка анархистов-коммунистов в Киеве Н.И. Рогдаев-Музиль). Национальный облик провинциальной элиты анархического движения в России в начале XX в. обуславливался пропагандировавшимся принципом «анархического интернационала» и соответствовал этническому составу регионов страны, в которых существовали анархистские группы.
Таблица 3. Этнический облик провинциальной анархической элиты [Составлено по: 1, 4, 6–7, 9, 12, 14, 16–17, 23–27, 29, 32]
Народность | Кол-во | % |
Великороссы | 7 | 33,33 |
Малороссы | 1 | 4,76 |
Евреи | 10 | 47,63 |
Армяне | 1 | 4,76 |
Грузины | 1 | 4,76 |
Чехи | 1 | 4,76 |
Всего | 21 | 100,00 |
По социальному происхождению более половины элитарных деятелей принадлежали к мещанскому сословию, являлись уроженцами местечек или городов, где и вели свою антигосударственную деятельность. Мещанами были один Последние осознавали важность и экономическую целесообразность владения полной из организаторов движения анархистов-коммунистов «хлебовольцев» на территории Северо-Западного края и Сибири И.М. Гейцман [27, с. 42], секретарь Московской федерации анархических групп П.А. Аршинов [2, с. 720].
Почти 1/5 часть элиты относилась к дворянству и крестьянству. Впрочем, анархисты не были подлинными представителями дворянского сословия, а только выходцами из него, не обладавшими помещичьей собственностью, другими привилегиями. Из дворян происходил Н.А. Каландаришвили [32, с. 41].
Записанные в крестьянство не являлись «свободными сельскими обывателями», не имея характерного для них образа жизни, рода занятий, места жительства. Мигрировавшие из-за демографического перенаселения из сел в города, они пополняли рабочий класс и интеллигенцию. Происходивший из крестьян Нерехтского уезда Костромской губернии Д.А. Фурманов, согласно его автобиографии, переехал в Иваново-Вознесенск и трудился преподавателем на рабочих курсах [8]. Исключение составлял подрабатывавший непродолжительное время батраком в помещичьем имении Н.И. Махно [12, с. 3].
Особо выделялся И.С. Гроссман, единственный, кто сословно принадлежал к купцам [26, с. 598]. Двое элитарных анархистов (А.М. Атабекян [17, с. 26] и организатор групп «Безначалие» в Тамбове, Киеве, Санкт-Петербурге Б.Ф. Сперанский [9, л. 515]) указаны в базе данных разночинцами. Они были представителями интеллигенции – социальной группы, официально не существовавшей в Российской империи, что отражало их неприятие ставшей в конце XIX – начала XX вв. анахронизмом сословной структуры российского общества.
Анархическая провинциальная элита происходила из низших слоев российского социума, что в тяжелых социальных условиях реальности (бедность, униженное существование) могло подвигнуть ее участников на вступление в общественное движение, направленное на осуществление социальной революции, пропагандировавшейся анархизмом.
Таблица 4. Социально-сословный состав анархической региональной элиты [Составлено по: 2, 4–5, 7–9, 11–17, 19, 23–34]
Социальное происхождение | Кол-во | % |
Дворянство | 3 | 15,00 |
Купечество | 1 | 5,00 |
Из мещан | 11 | 55,00 |
Из крестьян | 3 | 15,00 |
Из разночинцев | 2 | 10,00 |
Всего | 20 | 100,00 |
Образование является одной из важнейших социокультурных характеристик человека. Относительное большинство (см. Табл. 5) выдающихся анархистов училось в высших учебных заведениях, которые они не окончили из-за вступления в революционное движение или были исключены из них за антиправительственную деятельность. Л. Черный (П.Д. Турчанинов) со студенческой скамьи встал в ряды революционеров [34, с. VII].
Четверть активистов – крестьян и мещан по сословной принадлежности получили низшее образование. Н.И. Махно окончил церковноприходскую школу [14, с. 906]. Близкое к начальному уровню образования – домашнее воспитание получила террористка Ф.Е. Ставская [15, с. 532].
Одинакова доля людей со средним образованием и вообще без него. Для отрицания власти необходимости в грамотности совсем не было. Отсутствует информация о получении систематического образования Е.З. Ярчуком [23, с. 538-539]. Среднее образование требовалось учителю, техническому специалисту. О.И. Таратута окончила педагогические курсы [6, с. 257]. Н.И. Рогдаев-Музиль получил образование в Костромском механико-техническом училище [29, с. 413].
Большинство элитарных анархистов имели невысокий уровень образования, необходимый для восприятия и пропаганды анархических идей, в том числе в упрощенном виде. Малограмотность способствовала вовлечению людей в экстремистскую деятельность.
Таблица 5. Образовательный уровень анархических элитарных политиков [Составлено по: 2, 4, 7–9, 11–17, 19, 23–34]
Уровень образования | Кол-во | % |
Высшее | 8 | 38,10 |
Среднее | 3 | 14,28 |
Низшее | 6 | 28,57 |
Домашнее | 1 | 4,76 |
Без образования | 3 | 14,29 |
Всего | 21 | 100,00 |
Род занятий должен соответствовать полученному образованию. По данному критерию одной из наиболее многочисленных категорий были люди без определенных занятий (см. Табл. 6). Социальная невостребованность, сложная жизненная ситуация, состояние психоэмоциального дискомфорта порождали девиантное поведение, проявлением которого является приверженность к анархизму.
На высоком уровне в элитарной группе находилась доля ремесленников-евреев, занимавшихся кустарным производством в «черте оседлости», находившихся на низшей ступени в иерархической структуре российского общества. Столяром работал И.М. Гейцман [16, с. 135], бондарем – И.М. Клейнер [7, с. 221].
Ремесленникам близки рабочие, на которые как одну из групп «обездоленного населения» социально ориентировались и среди которых вели пропаганду анархисты-интеллигенты. Вовлечению пролетариев в революционное движение способствовали тяжелые условия труда. Слесарем трудился П.А. Аршинов [5, с. 48], рабочим сталеплавильного цеха был руководитель боевой дружины на Урале А.М. Лбов [30, с. 58].
Каждый пятый выдающийся региональный представитель анархистского движения в России в начале XX в. относился к студентам. Учащиеся высшей школы, в силу возраста максималистки настроенные, оттого критически оценивали образовательную систему Российской империи. Вошедший в южнорусскую группу анархистов-коммунистов М.Я. Броун-Ракитин, позднее примкнувший к эсерам, был студентом физико-математического факультета Новороссийского университета [31, с. 844].
Небольшим был удельный вес учителей, врачей, примыкавших к интеллигенции конторщиков, оппозиционно и революционно относившихся к политическому строю Российской империи, но понимавших необходимость власти и потому не имевших антиэтатистских устремлений. Учительницей была О.И. Таратута [3, с. 565].
Профессиональный состав анархистской региональной элиты включал разные слои «обездоленных» (термин анархистов), на которые и были социально ориентированы последователи М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина.
Таблица 6. Род занятий участников анархической провинциальной элиты [Составлено по: 2–5, 7–9, 11–17, 19, 23–34]
Профессия | Кол-во | % |
Конторщики | 1 | 4,76 |
Педагоги | 2 | 9,52 |
Врачи | 1 | 4,76 |
Рабочие | 3 | 14,29 |
Ремесленники | 5 | 23,81 |
Учащиеся | 4 | 19,05 |
Без определенных занятий | 5 | 23,81 |
Всего | 21 | 100,00 |
Представляют научный интерес их революционно-уголовные характеристики. По нашим подсчетам, революционный стаж участников изучаемой группы в 1917 г. составлял в среднем 15 лет. Практически все они в дореволюционный период подверглись разным мерам государственного принуждения за совершенные правонарушения. Н.А. Каландаришвили арестовывался 8 раз, Н.И. Махно был приговорен к смертной казни, замененной каторгой, А.М. Лбов был повешен.
Провинциальная элита анархистского движения в России в начале XX в. состояла преимущественно из мужчин-евреев в возрасте 25–45 лет, вступивших в политику в 20 лет в 1890–1900-е годы. Ее участники происходили и принадлежали к низшим слоям российского общества, получили невысокий уровень образования, что оказало влияние на становление их мировоззрения и политическую социализацию.
На фоне обобщенного портрета российского анархиста [1, с. 574-576] представители элиты выглядели более возрастными, образованными, имевшими больше политического (революционного) опыта, что свидетельствует об их элитарности.
Анархистская региональная элита в России в начале XX в. являлась следствием транзитного состояния модернизации отечественного социума, перехода от традиционного типа общества к индустриальному, результатом социально-экономической и политической трансформации страны вместе с провинциальными факторами влияния.
Об авторах
Никита Иванович Пьяных
Средняя общеобразовательная школа № 3
Автор, ответственный за переписку.
Email: nikita-p-2016@mail.ru
ORCID iD: 0009-0003-7416-6919
кандидат исторических наук
Россия, РассказовоСписок литературы
- Анархизм: pro et contra, антология / Сост., вступ. статья, коммент. П.И. Талерова. СПб.: РХГА, 2015. 1142 с.
- Анархистские движения России и Русского Зарубежья: Документы и материалы. 1922–1941 гг. М.: Политическая энциклопедия, 2021. 806 с.
- Анархисты. Документы и материалы. 1883–1935 гг. В 2 тт. / Т. 2. 1917–1935 гг. М.: РОССПЭН, 1999. 590 с.
- Атабекян А.М. Против власти / сост., предисл. и коммент. А.В.Бирюкова. М.: Книжный дом «Либроком», 2013. 176 с.
- Горелик А., Комов А., Волин. Гонения на анархизм в Советской России. Берлин: Изд. Группы русских анархистов в Германии, 1922. 63 с.
- Ермаков В.Д. Анархисты па фронтах Гражданской войны 1917–1922 годов. М-во культуры РФ. С.-Петерб. гос. ип-т культуры. Санкт-Петербург: СПбГИК, 2018. 271 с.
- Залесский К.А. Империя Сталина: Биограф. энцикл. словарь. М.: Вече, 2000. 605 с.
- Известия ЦИК СССР. 1926. 16 марта.
- Картотека участников революционного движения Тамбовской губернии. 1905–1906 гг. Сост. Пономарев П.Д. // Государственный архив социально-политической истории Тамбовской области (ГАСПИТО). Ф. 9019. Оп. 1. Д. 956.
- Кривенький В.В. Анархистское движение в России в первой четверти XX века: теория, организация, практика. М.: Политическая энциклопедия, 2018. 429 с.
- Кронштадтский Совет в 1917 году. Протоколы и постановления. Т. 2: июль-октябрь 1917 г. СПб.: Дмитрий Буланин, 2017. 540 с.
- Махно Н. Воспоминания. М.: Республика, 1992. 333 с.
- Незабытые могилы: российское зарубежье: некрологи 1917–1997: в 6 т. // Российская гос. б-ка. Отд. лит. рус. зарубежья; сост. В.Н. Чуваков. М.: Пашков дом, 1999. Т. 1: А–В. 659 с.
- Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918–1921: Документы и материалы / Под ред. В. Данилова и Т. Шанина. М.: РОССПЭН, 2006. 997 с.
- Политическая каторга и ссылка: биографический справочник членов общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. М.: Всесоюз. о-во политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1929. 686 с.
- Политическая каторга и ссылка: биографический справочник членов общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. М.: Всесоюз. о-во политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1934. 878 с.
- Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. М.: Большая российская энциклопедия, 1993. 432 с.
- Политические деятели российской провинции от эпохи Николая II до Сталина: монография. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2013. 159 с.
- Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX века. Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 1996. 800 с.
- Пьяных Н.И. Социально-демографический облик большевистской элиты европейской Великороссии в начале XX века // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. 2023. № 2. С. 67-72.
- Пьяных Н.И. Социографический портрет региональной элиты «Союза 17 октября» в России в начале XX века // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2024. № 4 (68). С. 19–29.
- Пьяных Н.И. Социокультурный состав меньшевистской элиты провинциальной России в начале XX века // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. 2024. № 3. С. 117-122.
- Революция и Гражданская война в России: 1917–1923 гг.: Энциклопедия. В 4 томах. М.: Терра, 2008. Т. 4. 558 с.
- Российская еврейская энциклопедия / Гл. ред. Г.Г. Брановер. Том 3. Биографии С–Я / М.: Рос. акад. естеств. наук: Рос.-израил. энцикл. центр, 1997. 525 с.
- Россия в 1917 году: энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2017. 1093 с.
- Россия в Гражданской войне. 1918–1922: Энциклопедия: в 3 т. М.: РОССПЭН, 2020. Т. 1. 846 с.
- Рублев Д. Анархист, дипломат, директор архива: жизнь и общественно-политическая деятельность И.М. Гейцмана // РОССИЯ XXI. 2023. № 3. С. 40–75.
- Русская литература. XX век. Прозаики. Поэты. Драматурги: биобибл. словарь: в 3 т. / под ред. Н.Н. Скатова. М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005. Т. 3. П-Я. 829 с.
- Савченко В.А. 100 знаменитых анархистов и революционеров. Харьков: Фолио, 2008. 710 с.
- Семенов В.Л. Революция и мораль (Лбовщина на Урале). Пермь: изд. Богатырев П.Г., 2002. 222 с.
- Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь-август 1922 г.): Подготовка. Проведение. Итоги. Сб. док. / [Сост. С.А. Красильников и др.]. М.: РОССПЭН, 2002. 1006 с.
- Тепляков А.Г. К портрету Нестора Каландаришвили (1876–1922): уголовник-авантюрист, партизан и красный командир // Исторический курьер. 2018. № 1. С. 40-53.
- Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: Документы и материалы. В 5-ти тт. Т. 4. 1934–1936 / Под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. М.: РОССПЭН, 2002. 1053 с.
- Черный Л. Новое направление в анархизме: ассоциационный анархизм. Нью-Йорк: Изд-во Рабочего Союза «Самообразование», 1923. 389 с.
Дополнительные файлы