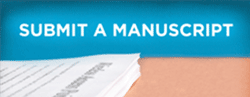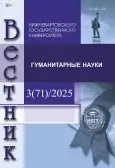The divergence of conservative liberals: the dispute between B.N. Chicherin, N.K. Rennenkampf and D.A. Milyutin
- Authors: Rybin D.V.1
-
Affiliations:
- All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia)
- Issue: No 3 (2025)
- Pages: 24-33
- Section: Domestic history
- URL: https://vestnik.nvsu.ru/2311-1402/article/view/646646
- DOI: https://doi.org/10.36906/2311-4444/25-3/02
- ID: 646646
Cite item
Full Text
Abstract
The aim of the work is to determine the attitude of conservative and liberal figures to the national question in the empire at the turn of the century. The difference in ideas on this issue marked the beginning of the demarcation within the right-liberal groups into supporters of autocracy or constitutional monarchy. Using the problem-chronological method, we established the main lines of demarcation on the national question. The ideological leader of the conservative liberals – B.N. Chicherin spoke from the position of the priority of the rights of national minorities, his opponent N.K. Rennenkampf, on the contrary, believed that the shortcomings of national groups determined their subordinate position in the empire. D.A. Milyutin, who tried to “return” Chicherin to the sphere of real politics, met resistance from the latter. For Chicherin, the primacy of human rights was higher than the interests of the state. He energetically protested against the suppression of the rights of the Jewish and Polish peoples. The contradiction between the two moderate liberals became the prologue to the split of their supporters in 1906. The dispute between the three figures is important for understanding how different political groups defined their attitude to the national question on the eve of the first Russian revolution. Thus, this division, initiated by Chicherin, marked the beginning of the final division of right-wing and liberal politicians into conservatives, conservative liberals and liberal conservatives. The future Black Hundreds, legalists (progressives) and Octobrists. The subject of further research could be the study of the division of moderate politicians on such grounds as human rights, the limits of imperial power, etc.
Full Text
Во второй половине XIX века в России существовало обширное либеральное движение, являвшееся частью освободительного движения. Частью его было течение либеральных юристов (легалистов). Значительная часть юристов примыкала к идеям Б.Н. Чичерина, представлявшим из себя «охранительный либерализм» (по выражению ученого). Они предполагали, что при сохранении консервативной власти царя будет происходить постепенная либерализация режима на пути к европейской демократии. Однако поступательное движение затормозилось при Александре III, который, хотя и не отстранил умеренных либералов от власти, но отдавал приоритет консерваторам. Положение ухудшилось при Николае II, когда было взято направление в сторону примитивного абсолютистского традиционализма. Таким образом, умеренные либералы могли увидеть, что их мечты о поступательной эволюции режима оказались всего лишь интеллектуальной ошибкой. Уменьшение влияния легалистов и репрессии, спровоцировали переход многих из них в радикальный лагерь, где уже находились левые либералы и социалисты.
История столкновения по вопросу о национальных меньшинствах с участием Б.Н. Чичерина, Н.К. Ренненкампфа и Д.А. Милютина в конце XIX в. не получила подробного освещения в научной литературе. Существует много работ о взаимодействии государства с поляками и евреями, которые только косвенно относятся к заявленной теме. Среди работ можно выделить труд К.А. Соловьева о политической системе России, в которой он передает глубокий скептицизм Б.Н. Чичерина, отраженный в переписке с Д.А. Милютиным [12, с. 57, 302, 332]. Исключение составляет только работа В.А. Китаева, где получили освещение отдельные аспекты дискуссии Б.Н. Чичерина и Н.К. Ренненкампфа [3, с. 116-123]. В современной историографии эта дискуссия освещена лишь в работе Г. Гамбурга [16].
Спор о положении национальных групп в Российской империи вызвал к жизни вопрос об отношении к характеру и ходу либеральных реформ, об отношении к сущности власти: самодержавие – навечно или ненадолго? Столкновения между либеральными группами происходили и раньше. Например, конфликт о характере реформы в Польше в 1864–1866 гг., когда Д.А. Милютин (статс-секретарь по делам Польши) конфликтовал с В.А. Арцимовичем (вице-президент Государственного Совета Польши). Первый проводил реформы радикально, быстро, второй требовал соблюдения законности, настаивал на постепенном ходе преобразований.
Тем не менее, большинство чиновников оставалось в парадигме консервативно-либерального мировоззрения, ждали и воспринимали как неизбежность проведение поступательных реформ, чувствовали свое групповое единство и совместный интерес. При отсутствии легальной партийной политики (до 1905 г.) различия между либералами казались несущественными и сводились к разной степени «левизны» – «правизны».
Б.Н. Чичерин против Н.К. Ренненкампфа
Усиление консервативных тенденций означало вызов для умеренных либералов: надо было определиться – консерватизм или либерализм? Многие пытались избежать этого выбора, чтобы оставить за собой свободу действий, сохраняя неопределенное политическое лицо. Но идейные общественные деятели настаивали на выборе. Одним из крупных внутренних конфликтов стало негласное требование идеолога легализма Б.Н. Чичерина определить свое отношение к национальным группам в последние годы XIX века. В науке нет четкой позиции по поводу взглядов Бориса Николаевича. Его именуют консерватором, либералом, консервативным либералом, либеральным консерватором и т. п. [1, с. 90-102; 11, с. 304-316]. Такой разнобой связан с его различной политической позицией в разные периоды жизни. Внешне Б.Н. Чичерин предстает как человек эволюционирующий от консерватизма к либерализму (стоит отметить, что многие умеренные либералы 1860-х гг. состарившись, напротив, смещались к консерватизму). На наш взгляд, эта путаница возникает из непонимания того, как консерватизм и либерализм уживались в голове ученого. Однако, если внимательно прочитать его воспоминания и труды 1860-х и 1890-х гг., то никакой эволюции и противоречия мы не обнаружим. В представлении Б.Н. Чичерина политическое развитие должно было происходить от самодержавия к конституционной монархии с постепенным торжеством правового порядка. Вопрос о правах человека, как либеральной ценности обсуждению не подлежал и являлся высшим императивом. В случае же с его оппонентом – бывшим министром Д.А. Милютиным, возможно, эволюция от либерализма к консерватизму (в представлениях) имела место. По крайней мере, исследователи отмечают, что в годы реформ министр отличался большим реформаторским настроем [2; 4, с. 33-37].
Прошло 40 лет, а прекрасные планы не реализовывались. Возможно, Б.Н. Чичерин просто устал ждать. Он имел преклонный возраст, политическая карьера не сложилась, люди казались, в большей своей части, бездарями. В такой ситуации, когда уже терять было нечего он «перешел в наступление» на государство, проявив недюжинный талант полемиста и интеллектуала. Объяснение своей эволюции Б.Н. Чичерин давал в письме Д.А. Милютину 31 августа 1900 года. В 1860-х гг. он выступал против конституционной реформы, так как считал одновременную реформу государства и общества опасными. Тем не менее, конституционное правление должно было завершить преобразования Александра II (в письмах 1878 г. Б.Н. Чичерин писал – «время настало»!). Далее противоречия, после 1881 г., нарастали. «Износившееся самодержавие обратилось в труху в руках тайных людей преследующих исключительно личную выгоду интереса» [8, л. 23-24].
Спусковым крючком стала полемика с консервативным профессором Киевского университета Николаем Карловичем Ренненкампфом.
В 1898 г. Борис Николаевич выпустил в свет третий том курса «Государственная наука (Политика)». В нем, кроме прочего, ученый разбирал правовое положение национальных групп в Российской империи. Прочитав этот труд, бывший ректор Киевского университета Н.К. Ренненкампф решил высказать свою позицию по идеям Б.Н. Чичерина. В номерах с 158 по 165 журнала «Киевлянин» вышло два письма, в которых он изложил свою точку зрения.
Собрав все высказывания Б.Н. Чичерина, Н.К. Ренненкампф подчеркивал, что, по словам его оппонента, Россия воспользовалась слабостью Польши и поделила ее с немцами. При этом уровень политико-культурного развития Польши был относительно высоким. Так что включение ее в состав России было ошибкой. Внешне киевский профессор соглашался с автором курса «с высшей точки зрения, руководимой принципами справедливости и законности» [10, с. 3-13]. Но, далее он критиковал своего московского коллегу.
Он указывал, что Польша пала жертвой собственной анархии. Россия вернула себе свои земли. В гибели государства Польского, в том числе, были виноваты поляки: в последнее столетие они не смогли приобрести политической самостоятельности и вели себя, по-прежнему, не как зрелая нация. Подавляли русинов в Галиции, поднимали безумные восстания 1832 г. и 1863 г., несмотря на дарованные им свободы. При этом Россия сохраняла благожелательное отношение к полякам; обеспечивала им стабильность, не русифицировала исконно польские земли (в этом профессор был далек от истины), освободила крестьян. В ответ католическая церковь занималась своей пропагандой, дворянство сохраняло высокомерие.
По мнению киевлянина, сближение двух народов было бы очень желательно и возможно. Но, поляки, в итоге, оказались двуличными, фанатичными, нетерпимыми и все сближение разрушили в 1863 году. В настоящем времени образованное польское общество, по-прежнему, не было готово к объединению и жило затаенной злобой [10, с. 13-43].
Второе письмо профессора относилось к еврейскому вопросу. Наша вера произошла из иудаизма, возглашал Б.Н. Чичерин. Он развенчивал мифы о еврействе: его паразитизме, изворотливости, аморализме и прочих грехах. Однако эти грехи не национальные, а индивидуальные, провозглашал Б.Н. Чичерин. В общем надо немедленно отменять все ограничения прав евреев, считал московский профессор [10, с. 44-56].
Н.К. Ренненкампф упрекал оппонента, что он смешивает евреев и иудаизм I в. и XIX в., а это уже во многом другой народ и другая вера. Христианство – это шаг в развитии иудаизма, а не сам иудаизм. Не гонения вызвали отчуждение иудаизма, а он был всегда и основывался на идее исключительности евреев. Далее Н.К. Ренненкампф перечислял антисемитские проявления русского (украинского) населения в отношении евреев. Соответственно он задавался вопросом: разве в таких условиях возможна мгновенная отмена еврейских ограничений? Далее Н.К. Ренненкампф огульно приписывал евреям совокупность негативных качеств, которые «могут вырваться наружу и заполонить наши города и села» (изворотливость, лживость, чувство расового превосходства, паразитизм и пр.). Евреи должны «представить достаточные гарантии своей полезной трудовой деятельности» (интересно – как?). Нельзя отдавать «мужицкое царство» на произвол евреев! – призывал Н.К. Ренненкампф. Далее киевлянин рисовал фантастические ужасы нашествия евреев. Если дать им возможность приобретать землю они-де в короткий срок ее всю захватят, а крестьян превратят в батраков. В высшем и среднем образовании евреи захватят все основные позиции. Евреи споят русское население и тому подобное [10, с. 56-72].
В то же время, по мнению Н.К. Ренннекампфа, во многом было виновато царское правительство. На протяжении XIX в. серией мер оно способствовало замыканию евреев в касту. В итоге вражда возрастала. Надо отменить все законы, способствующие такой замкнутости, в том числе, упразднить особые еврейские общества, прекратить специальные сборы, включить все еврейские организации в местные структуры, упразднить все еврейские учебные заведения. В общем отменить особый сословный статус евреев [10, с. 3-13]. Подводя итог, Н.К. Ренненкампф считал, что отменять ограничения евреев необходимо постепенно по мере того, как они докажут свой патриотизм и сольются с коренным народом.
Еще до того, как Б.Н. Чичерин ответил на письмо киевского профессора, некие анонимные либералы, проживавшие в Европе, подготовили и в 1898 г. опубликовали памфлет с нападками на Н.К. Ренненкампфа. Среди агрессивной критики консерватора выделялись разумные возражения: превалирование личных замечаний над научными, игнорирование военного характера захвата Польши в XVIII в., отрицание русификации. Особенно разгромной критике Н.К. Ренненкампф подвергся за его беспомощные антисемитские идеи [7].
Б.Н. Чичерин, готовивший ответ оппоненту, не мог давать категоричные оценки его позиции. В 1899 г. этот ответ был опубликован в Берлине. Нам неизвестно, успел ли Н.К. Ренненкампф его прочитать, так как он скончался 10 мая 1899 года.
В ответе Борис Николаевич поднимал глубокие и сложные этические вопросы. Так, он различал нравственный и безнравственный патриотизм. К последнему ведет так называемая практическая политика, которой проникнуты «так называемые практические государственные люди», «масса пошлых людей», журналисты-пропагандисты. Нас должно вести нравственное чувство: «протяни руку павшему под нашими ударами брату». Далее Б.Н. Чичерин разбивал доводы Н.К. Ренненкампфа. Соседи поддерживали нестабильность Польского государства. Разделы Польши были безнравственным действием, в отличие от политики Алексея Михайловича и Петра I. Был нарушен Вечный мир. Екатерина II воспользовалась слабостью поляков. Польские восстания надо было подавлять, но после этого государство ликвидировало Царство Польское и принудительно включило его в состав Российской империи. Отрицание Н.К. Ренненкампфом русификации вызывало у Б.Н. Чичерина недоумение. Он приводил множество примеров этой самой русификации («располячивание» по Каткову). Язык вытеснялся, униатов принудительно загнали в православие. Б.Н. Чичерин подчеркивал, что, занимаясь панславянизмом, общество и правительство как бы исключили «плохих славян» - поляков из прекрасной славянской семьи. «Освобождая одних братьев... держать других в цепях» [13, с. 30]. Занимаясь двуличием, мы привлечем к себе только таких же двуличных людей, утверждал ученый. Требование Н.К. Ренненкампфа, чтобы католическая церковь не занималась миссионерством казалось Б.Н. Чичерину крайне странным – ведь это же предназначение религиозной организации! Нельзя принуждать человека относиться к определенной вере [13, с. 13]. Необходимо было, по мнению ученого, отменить все исключительные меры, уравнять русских и поляков, польский язык восстановить во всей полноте, предоставить Польше местное самоуправление. В конечном счете надо дать Польше суверенитет. А как иначе? Либо исполнение нравственного долга, либо братоубийство. Унижая поляков, мы унижаем себя. Даже с практической стороны обладание Польшей невыгодно. Мы тратим на нее больше, чем получаем. Освобождение Польши привлекло бы к России симпатии всех славян и составило фатальную угрозу для Германии. Так считал Б.Н. Чичерин [13, с. 1-37].
По еврейскому вопросу все дело, по его мнению, заключалось в предрассудках. Далее он намекал, что именно Н.К. Ренненкампф наполнен сказками и мифами о евреях. Б.Н. Чичерин интеллектуально наказывает своего слабого оппонента. Так, он демонстрирует знание Талмуда и показывает, что религиозная традиция иудеев непрерывна и культура их по-прежнему весьма давняя. Почему же мы их притесняем, вопрошал ученый? Он указывал, что близких нам людей по религии или национальности мы притесняем особенно сильно. Если мы истинные христиане, то о каком вообще гонении мы можем говорить? Вообще, за что собственно евреи терпят ограничения? Страхи по поводу предприимчивости евреев могут вызвать удивление. Получается, государство, имеющее в своем составе евреев, обладает преимуществом? Ненависть к евреям сродни к ненависти к другим народам и носит зоологический характер. Непонятно также, почему осуждалось внутреннее единство еврейского мира. Что лучше разъединение, существующее внутри русского мира? Энергично Б.Н. Чичерин декларировал справедливость в равенстве всех поданных империи [13, с. 37-56]. Дискуссия между умеренным либералом и консерватором имела своеобразное продолжение в виде спора между старыми друзьями – Д.А. Милютиным и Б.Н. Чичериным.
Переписка Б.Н. Чичерина и Д.А. Милютина
Стоит отметить, что в тот период Борис Николаевич переживал душевный кризис, отражавшийся в его письмах к друзьям. Большой интерес представляет его переписка с Д.А. Милютиным как пример столкновения двух подходов в либеральном реформировании государства. Генерал-фельдмаршал в то время постоянно проживал в Симеизе в своем имении. Из него он вел активную переписку с близкими по духу интеллектуалами.
В том году (1899) либеральная общественность активно обсуждала публичную переписку Б.Н. Чичерина и Н.К. Ренненкампфа. По этому вопросу между Б.Н. Чичериным и Д.А. Милютиным также завязалась важная для политической истории России переписка, но уже частного характера.
13 ноября Д.А. Милютин направил Б.Н. Чичерину письмо, в котором мягко, но с оговоркой соглашался с Б.Н. Чичериным (по вопросу о нарушении прав малых народов). Отставной высший офицер констатировал, что права человека, это хорошо, но «не только мы не доживем до желаемого перерождения нашей матушки России, но даже и внуки, и правнуки наши едва ли будут участниками этой метаморфозы» [9, л. 31-32]. Далее Д.А. Милютин, давая оценку полемике двух профессоров, отмечал, что в польском и еврейском вопросе Б.Н. Чичерин полностью прав с этической точки зрения. Тем не менее, этика противостоит политике. Применение этики приведет к развалу государств и переделу границ [9, л. 33-34]!
Б.Н. Чичерин в ответном письме 22 ноября переживал, что Д.А. Милютин не принял его ответ к Н.К. Ренненкампфу. Он соглашался, что политика и нравственность разделены! Но надо их соединить! – возглашал Б.Н. Чичерин. Рассуждения ученого рисуют нам образ либерального идеалиста. «Мы перед поляками в неоплатном долгу, отнявши у них то, что есть самого святого на земле». «Мы должны подняться на нравственную высоту!», – восклицал Б.Н. Чичерин. В отношении евреев он рассуждал о необходимости скорого уравнения их прав с русскими [8, л. 11-14].
В ответ на эмоциональное письмо ученого Д.А. Милютин 3 декабря подготовил ответ, где корректно пытался остудить старого друга. Он подчеркивал, что между их этическими позициями нет противоречий. Но, политик не может «всегда идти по прямой линии, напролом, а должен применяться к обстоятельствам». Нельзя переделывать историю, нельзя применять научные принципы к давно минувшим событиям. «Польше нельзя давать независимость», – категорически утверждал Д.А. Милютин. Как к этому отнесутся Австро-Венгрия и Германия? Что скажет русский народ? «Ваша мечта полностью неосуществима», – констатировал Д.А. Милютин [9, л. 35-38].
Получив письмо, Б.Н. Чичерин 14 декабря подготовил новый ответ. «Я не могу встать на Вашу точку зрения», – писал ученый. «Мы должны снять с себя пятно братоубийства», применить гуманизм и справедливость к славянам. «Освобождение Польши я не только считаю безусловным нравственным требованием, но и единственным практическим исходом». Проявляя невиданный идеализм, Б.Н. Чичерин утверждал, что, освободив поляков мы сможем возродить славянское движение против немцев. Иначе говоря, ученый сразу же закладывал под освобождение Польши войну с немцами. И далее Б.Н. Чичерин пускался в рассуждения о «практической нравственности» [8, л. 15-18].
20 декабря 1899 г. Д.А. Милютин сделал запись в своем дневнике о прекращении полемики с Б.Н. Чичериным по польскому и еврейскому вопросу: «Полагаю бесполезным продолжать эту полемику: став твердо на теоретическую позицию, он упорно отказывается от всякой уступки практическим соображениям политики» [5, с. 535]. После этого переписка временно прекратилась. Отношения двух либералов охладели и дальше они не затрагивали политических тем в письменных диалогах.
Под влиянием переписки по национальному вопросу и по другим причинам Б.Н. Чичерин выпустил в 1900 г. в Берлине книгу «Россия накануне двадцатого столетия». В ней подводился неутешительный итог сорокалетнему периоду реформ и контрреформ. Автор констатировал «поворот не туда». Россия свернула с пути, предначертанного великим монархом. Было испорчено всё, что было сделано в 1860–1870-е годы. Б.Н. Чичерин предрекал войну, поражение России и переустройство на основе крови. Прочитав данную книгу, любой исследователь никак не сможет отнести Б.Н. Чичерина к консерваторам. Он никогда им и не был. В конце жизни он оставался консервативным либералом, раздраженным от упущенных возможностей, переживающим от тяжелых испытаний, предстоящих России [14; 15].
Мнение крупного ученого, бывшего друга, задело Д.А. Милютина, и он думал о нем до самой смерти. Эти размышления, в конце концов, породили его исследовательскую статью «О разноплеменности в населении государств», выпущенную в 1911 году. В ней, рассуждая о национальных интересах государства с позиций централизации и консерватизма, Д.А. Милютин вспоминал свою переписку с Б.Н. Чичериным «к крайнему удивлению моему – заступника за поляков» [6, с. 52-67]. В отличие от легалистов, Д.А. Милютин решительно отвергал автономию национальных групп, не говоря уже о возможном отделении (что в отношении Польши предполагал Б.Н. Чичерин). В конечном счете, Д.А. Милютин оставался либеральным консерватором. Для него реализм в политике оказался сильнее либерализма и интересы государства оказались выше интересов прав поданных.
Внешние проявления в деятельности двух шестидесятников Б.Н. Чичерина и Д.А. Милютина позволяю предположить, что они пережили разную эволюцию: Б.Н. Чичерин от консерватизма к либерализму, а Д.А. Милютин, наоборот. Однако на самом деле это не так. Бывший министр всегда был реалистом, хоть и с либеральным уклоном. Б.Н. Чичерин же был консервативным либералом «в английском смысле», то есть поступательным реформатором из-за отсутствия движения в сторону демократизации, превращающегося в радикального деятеля. Такую эволюцию, только быстрее и радикальнее проделали многие российские либеральные интеллигенты, разочаровавшиеся в способности бюрократии провести необходимые реформы. Спор между тремя персонами помог их сторонникам определиться по какому пути они должны пойти: консервативному, либерально-консервативному или консервативно-либеральному. Для консервативных либералов либерализм был главной целью, а консервативные методы управления – инструментом для его достижения, для либеральных консерваторов, напротив, сохранение традиционных основ было идеалом, а либерализм был инструментом модернизации ради их сохранения.
Так, столкновение двух либеральных деятелей (Б.Н. Чичерина и Д.А. Милютина) стало симптомом будущего разделения соратников на лагеря либеральных консерваторов (октябристов) и консервативных либералов (мирнообновленцев), произошедшего через шесть лет, когда настало время сделать выбор: играть в либерализм или применять его как неоспоримую идею. Что же касается «идеализма» Б.Н. Чичерина, то его опасения целиком подтвердились и мрачные прогнозы сбылись.
About the authors
Danil V. Rybin
All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia)
Author for correspondence.
Email: danilarybin@rambler.ru
ORCID iD: 0000-0003-4851-2235
SPIN-code: 9503-1890
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, St. Petersburg Institute (branch)
Russian Federation, St. PetersburgReferences
- Baranov, N.A. (2010). Liberal-conservative synthesis in Russia: history and prospects // Problem analysis and public management design. Vol.3, no 5. P. 90-102. (in Russ.).
- Zakharova, L.G. (2003). D.A. Milyutin: Minister of War and Reformer. “Our entire state structure requires radical reform from bottom to top”. Russia: international situation and military potential in the middle of the 19th and early 20th centuries. Moscow.Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences. 363p. (in Russ.).
- Kitaev, V.A. (2004). Liberal thought in Russia (1860–1880). Saratov. Publishing House of Saratov University. 380 p. (in Russ.).
- Kuznetsova, T.A. (2013). Political ideals of D.A. Milyutina. Knowledge of the countries of the world: history, culture, achievements. № 1. P. 33-37. (in Russ.).
- Milyutin, D.A. (2013). Diary. 1891–1899. Ed. L.G. Zakharova. Moscow.ROSSPEN. 780 p. (in Russ.).
- Milyutin, D.A. (2003). On diversity in the population of states. Source. No 1. P. 52–67. (in Russ.).
- Science and sycophancy. (1898). Reply to Professor Rennenkampf on the Polish and Jewish question in Russia. London: print by the “Russian free press fund”. 15 p. (in Russ.).
- Manuscripts Department of the Russian State Library (OR RSL). F. 169. Cardboard 77. D. 54.
- OR RSL. F. 334. Cardboard 5. D. 1.
- Rennenkampf N.K. (1898). Polish and Jewish questions (open letters to B.N. Chicherin). Kyiv: typo-lit. t-va I.N. Kushnereva and Co. 82 p. (in Russ.).
- Rybin, D.V. (2023). The ideology of the liberal legalist movement and the theory of conservative liberalism // Bulletin of St. Petersburg University. Story. Vol. 68. no 2. P. 304-316. (in Russ.).
- Soloviev K.A. (2018). The political system of the Russian Empire in 1881–1905: the problem of lawmaking. Moscow.ROSSPEN. 351 p. (in Russ.).
- Chicherin B. (1899). Polish and Jewish issues. Response to open letters from N.K. Rennenkampf. Berlin. G. Steinitz. (in Russ.).
- Chicherin, B.N. (1900). Russia on the eve of the twentieth century. Berlin. G. Steinitz. 180 p. (in Russ.).
- Chicherin, B.N. (1901). Russia on the eve of the twentieth century. Berlin. G. Steinitz. 160 p. (in Russ.).
- Hamburg, G.M. (2024). Freedom and Unfreedom in the Russian Empire in the Debate between Chicherin and Rennenkampf at the End of the Nineteenth Century. Vestnik of Saint Petersburg University. History, vol. 69, issue 2, рp. 291-306.
Supplementary files