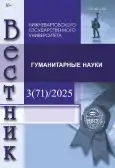Культурно-исторические корни праздника sd в Древнем Египте
- Авторы: Шеркова Т.А.1
-
Учреждения:
- Центр египтологических исследований РАН
- Выпуск: № 3 (2025)
- Страницы: 4-23
- Раздел: Всеобщая история
- URL: https://vestnik.nvsu.ru/2311-1402/article/view/690548
- DOI: https://doi.org/10.36906/2311-4444/25-3/01
- ID: 690548
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В Древнем Египте царский праздник sd отмечался через несколько лет после коронации и был причастен к важным событиям в период правления монарха. Наиболее ранние материальные источники о проведении торжеств относятся к культуре Нагада (IV тыс. до н. э.) и Раннему царству. На них представлена сцена ритуального бега вождя/царя за священным быком − богом Аписом. Вместе с тем быка приносили в жертву. Применяются сравнительно-сопоставительный и иконографический метод. Истоки ритуала жертвоприношения уходят в первобытные времена охотничьего быта. Коллективная трапеза убитым животным означала приобщение к родовому предку. В динамике исторического процесса тотемические верования трансформировались. Жертвоприношение быка являлось центральным ритуалом во время царских праздников, в том числе, праздника sd. Целью этого ритуала было высвобождение духа жертвы, которая считалась богом. А жертвователь, − царь подтверждал свой религиозный и социальный статус. Но в процессе проведения праздника сед и сам царь становился жертвой. Рассмотрение этого торжества как переходного обряда, включающего три стадии: отделения, промежуточный и включения, позволяет видеть в нем магико-религиозную процедуру, переживание символической смерти в прежнем состоянии и рождение в новом качестве. Царь подтверждал свои права на египетский трон и как гарант процветания социума на высшем уровне религиозных представлений восстанавливал победу порядка над хаосом. Иконография фараона с хвостом быка во время ритуального бега во время торжества Hb-sd сохранялась на протяжении всей истории древнего Египта. Написание фонетической части слова хвост и этого праздника тождественны. Это свидетельствует в пользу гипотезы о сохранении на протяжении тысячелетий религиозно-мифологических представлений о причастности царя к священному быку, обладающему маной, проецированной на владыку Египта. Универсальные представления о жертвоприношении быка и его расчленении ассоциировались с мифами и ритуалами о первой жертве, об умирающих и воскресающих богах, к числу которых принадлежал египетский Осирис, а бык Апис считался его спутником, животной формой бога.
Ключевые слова
Полный текст
Древнеегипетскому царскому юбилею Hb-sd посвящена огромная литература в различных аспектах. Этот праздник связан с ритуалами по легитимации правящего фараона на египетский трон через определенное количество лет как подтверждение статуса носителя верховной власти над двуединым Египтом. Изобразительные тексты отражают ключевой момент церемонии − ритуальный бег, который фараон совершает на территории его заупокойного храма или гробницы. А этот факт указывает на причастность церемонии к представлениям о смерти, символической смерти, через которую проходит посвящаемый, а также позволяет рассматривать праздник sd как переходный обряд в череде других, связанных с изменением социального статуса: возрастным, по случаю брака, похорон. Мифологическое мышление отождествляло макромир и микромир, явления природные и социальные, поэтому события, причастные к наступлению Нового года, земледельческим сезонам, отражались в социуме в форме обрядов, ключевая роль в которых отводилась царю в его основных функциях как отвечающего за процветание общества, удачливого и мужественного воина, защитника, строителя храмов.
Целый ряд праздников посвящался собственно царю − восшествие на престол, коронация, брак, победоносные войны, похороны. К числу этих торжественных событий принадлежал и юбилей Hb-sd, который отмечался на протяжении всей истории древнего Египта. Однако специальный интерес представляет культурно-исторический контекст возникновения этого праздника, его природа.
Наиболее ранними изображениями праздника sd являются два. На фрагменте холста из погребения в Гобелейне, датированного фазой Нагада I (амратской, первая половина IV тыс. до н. э.), на одной из плывущих лодок воплощено легкое сооружение, возле которого сидит персонаж с инсигнией власти в руках [20, fig. 23] (рис. 1). На полихромном панно из большой могилы 100 в столичном городе Нехен (греч. Иераконполь, совр. Ком эль-Ахмар), датированной следующей, герзейской фазой культуры Нагада II (вторая половина IV тыс. до н. э.), на одном из нильских кораблей воплощен бегущий в наосе персонаж. На черной лодке под сферическим балдахином лежит тело хозяина этого погребения, − регионального царя [33, pl. LXXV−LXXIX] (рис. 2, 2а). Сцена праздника sd представлена на церемониальной булаве царя Нармера (протодинастическое время, нулевая династия, ок. 3300−3200 гг. до н. э.) из основного депозита в храме бога Хора в Нехене [34, рl. XXVIA−XXVIB] (рис. 3). А на табличке царя I династии Дена из Абидоса представлены оба фрагмента церемонии sd. Слева царь сидит в наосе, а справа он совершает ритуальный бег между двумя рядами маркеров dbnw в виде полумесяца [36, fig. 45]. (рис. 4, 4а). На двух более ранних, додинастического времени изображениях сцены происходят на воде, в лодках, что указывает (с учетом нахождения этих артефактов в погребениях) на способ перемещения умершего в мир мертвых. В самом деле, в могилах додинастического времени часто находятся модели лодок. В третьем случае события происходят на открытом дворе в храме бога Хора в Нехене, откуда и происходит эта церемониальная булава царя Нармера. На табличке царя Дена сцены праздника sd происходят во дворе поминального храма или гробничного комплекса царя в Абидосе, куда переместилась столица из Нехена. Впрочем, отправиться в страну предков можно было не только на лодке, но и на крыле птицы, о чем сообщают Тексты пирамид (Pyr. Utt. 270, §383–385; Pyr. Utt. 270, § 387). Переправа совершалась по воде, разделяющей небо и землю [30, p. 78, note 1]. Однако во всех трех случаях изобразительные тексты посвящены празднику sd, во время которого царь подтверждает свои права на престол, проходя испытания символической смертью, возрождаясь в новом качестве. Но с точки зрения изображенных моментов ритуала не имеет значения, к какому историческому периоду они относятся. Они отражают одни и те же события: сидения на троне и ритуальный бег, который являлся ключевым, возможно, завершающим праздник событием. Есть основания полагать, что Hb-sd, существовавший в Египте на протяжении тысячелетий древней истории, сложился еще на ранних этапах существования культуры, по крайней мере при охотничьем образе жизни племен. Вместе с тем по мере развития культуры усложнялось содержание церемонии, увеличивалось количество праздников, связанных с фигурой социального лидера. От региональных царей додинастического времени в процессе объединения Верхнего и Нижнего Египта с протодинастического времени власть сосредоточилась в руках общеегипетского царя. Иконографический анализ многочисленных предметов мелкой пластики, − годовых табличек из слоновой кости и дерева, печатей, церемониальных палеток и пр. позволяет определить в структуре композиций, образах и предметах, в них запечатленных, включенные в сценарии праздника sd ритуалы.
Рис. 1. Холст из могилы в Гобелейне (по [20])
Рис. 2. Панно из гробницы 100 (по [33])
Рис. 2а. Ритуальный бег, панно из гробницы 100 в Нехене
Рис. 3. Церемониальная булава царя Нармера из Нехена (по [34])
Рис. 4. Годовая табличка царя Дена, Абидос (по [36])
Рис. 4а. Фрагмент годовой таблички царя Дена со сценой ритуального бега (по [36])
Сравнительно-сопоставительный анализ с подобными феноменами во многих этнографических культурах, в том числе африканских, позволяют гипотетически заполнить лакуны в египетских материалах при всем понимании уникальности культур, в которых развивались универсальные мифо-ритуальные представления на разных ступенях развития культур. И в первую очередь эти представления связаны с отождествлением макрокосма и микрокосма, медиатором между которыми считался социальный лидер, наделенный божественной и человеческой природой, отвечающий за процветание всего общества. Поэтому целью праздника sd являлось восстановление физических, духовных сил правителя в циклическом потоке времени. В широком смысле мифо-религиозных представлений этот обряд был призван восстановить космический порядок в его борьбе с хаосом.
Ритуал по определению призван актуализировать в коллективном сознании социума основополагающую идею культурной памяти, связанную с идентичностью как каждого члена, так и коллектива в целом. Обеспечивающее культурную идентичность знание (чувство общности) включает в себя мудрость и миф, что связано с ответами на вопросы: «что нам следует делать?» и «кто мы такие?» как подтверждение идентичности [2, с. 151-152]. Священнодействия направлены на консолидацию коллектива вокруг осевых представлений о миропорядке как космическом законе. В ритуале − творческом делании устанавливался космический порядок как результат победы его над хаосом со всеми изоморфными ему природными и социальными феноменами, − событиями, символическими образами, их раскрывающими, угрожавшим распадом системы идентичности мира в целом. Если миф хранит священные писания, то обряд вносит в общество порядок, противостоящий хаосу. В бесписьменных обществах целью обрядов (ритуальной коммуникации) является циркуляция и воспроизводство знания, обеспечивающего идентичность, тесно связанные между собой. «В бесписьменных обществах, а также таких, которые, подобно Древнему Египту, основывались, несмотря на употребление письма, на “обрядовой когерентности”, когерентность группы опирается на принцип ритуального повторения, причем в плане как синхронии, так и диахронии» [2, с. 154].
Для носителей архаического и даже классического периода древнеегипетской культуры ритуал играл центральную роль, ибо «только в ритуале достигается переживание целостности бытия и целостности знания о нем, понимание как благо и отсылающее к идее божественного как носителе блага» [16, c. 17].
Все действа во время ритуалов нацелены на восстановление, возрождение, обновление мира. Это относилось как к таким общим для коллективов праздникам, как наступление Нового года, так и к переходным (возрастным, социальным) обрядам человеческой жизни с той лишь разницей, что в социуме индивид поднимается по социальным ступеням, − от рождения и включения в коллектив, достижения половой зрелости и брака до похорон. В каждом обряде перехода (из одного состояния в другое, из одного мира – космического или общественного – в другой выделяются три категории обрядов перехода: отделения (прелиминарный), промежуточный (лиминарный), включение (постлиминарный) [3, с. 15, 26-28, 103, 169]. Иначе говоря, человек изымается из нормального существования, превращаясь в анормального человека, пребывающего в анормальном времени. На следующем этапе для инициируемого наступает период социального безвременья. Эти промежуточные обряды, приводящие инициируемого в маргинальное состояние, состоят в том, что он отделяется от привычной жизни, помещается в замкнутое пространство, исполняет все предписания и запреты в отношении еды, одежды и передвижения. Он словно находится между небом и землей. С точки зрения обычных людей инициируемый «заражен священным началом», находясь в священном состоянии, чем и опасен для других, «грязен». «Чтобы понять обряды, относящиеся к порогу, следует помнить, что порог является элементом двери и что большая часть этих обрядов должна рассматриваться в прямом и непосредственном смысле как обряды входа, ожидания и выхода, т. е. обряды перехода» [7, с. 95-98]. Таким образом, между двумя фазами перехода наступает символическая смерть, смерть в старом качестве, как обязательный процесс нахождения вне пространства и времени. В. Тэрнер, изучавший подобные церемонии в честь вождей африканских этнографических культур, полагал, что лиминарность занимает центральное место в переходных обрядах. В лиминарных фазах культур миф и ритуал обогащаются: «если лиминарность считать временем и местом отхода нормальных способов социального функционирования, ее можно рассматривать как потенциальный период тщательной проверки центральных ценностей и аксиом культуры, в которой она происходит» [17, с. 231-232]. Основатель аналитической психологии К.Г. Юнг полагал, что лиминарность как безвременье, пороговость соответствует бессознательному в целостной психике человека [19, с. 36-56] – творцу мифов, архетипических образов.
К числу обрядов перехода относится царский праздник sd. Он отмечался несколько раз в правление одного фараона; в первый раз – через тридцать лет, а затем каждые три года, хотя эта периодичность не охватывает всех известных из источников случаев [11, с. 72]. Не известно, к каким обстоятельствам был причастен этот праздник, но суть его состояла в представлениях о божественности верховной власти, обновлении контактов царя с богами и социумом, прав на трон и власти над всем Египтом [38, р. 107]. О том, что праздник sd отмечался через 30 лет после коронации, известно из поздних источников [37, р. 182], поэтому нет твердой уверенности, что эта практика могла применяться во все периоды древнеегипетской истории.
Поскольку праздник sd существовал в Египте на протяжении тысячелетий, то его природа и дальнейшее развитие может рассматриваться в процессе культурно-исторических изменений от эпохи присваивающих видов хозяйства, − охоты и рыболовства, начала и развития земледелия и скотоводства в додинастическое время и становления раннего государства на основе социокультурной трансформации. Теоретическим обоснованием происходивших изменений может служить идея Ю.М. Лотмана о развитии культур в структуре взаимодействия и взаимообусловленности двух процессов: постепенных и взрывных тенденций, выполняющих различные функции. Одни обеспечивают преемственность, другие – новаторство [8, с. 17-34]. Последние связаны с опытами, практиками, изобретениями, внешними контактами и заимствованиями. Следы тотемических представлений первобытных культур с присущими им верованиями о невыделенности человека из природного мира сохранились в Египте и в эпоху мифотворчества неолитических культур и даже в классический период существования государства в форме почитания богов в обличии животных или зооантропоморфных и фантастических образов. В протодинастическое время мотив охоты в изобразительных текстах отождествлялся со сценами сражений и военных триумфов вождя/царя. Говоря о семантическом тождестве мотива охоты и сражения, К. Леви-Строс писал: «…охота приносит пищу, хотя похожа на войну, которая приносит смерть» [6, с. 198]. На высшем уровне мифо-религиозных представлений он отражал космогонические представления о победе космоса над хаосом в циклическом движении времени, в котором начало неразрывно связано с концом. И эти представления ассоциировали социальные явления с природными, сезонными, отраженными в переходных обрядах, направленных на обновление природы и человека через умирание в старом качестве.
В древних и традиционных культурах восходящие на трон социальные лидеры, − вожди/цари проходили через болезненные физические и психологические испытания, присущие инициациям. Об этом свидетельствуют различные культуры. Как и у многих африканских народов, у племен ндембу (Замбия) восхождению на трон верховного вождя предшествовал целый ряд мероприятий, связанных с его изоляцией. Лиминальность ндембу изобилует образами смерти. Для него строили легкий шалаш (в переводе именованный «умирать») вдали от столичной деревни, где претендент на должность верховного вождя умирает в своем прежнем качестве. Одежда его бедна. Он сидит на корточках − в позе стыда, его поливают водой, добытой из реки, где по поверью останавливались вожди-предки. В начале обряда будущий вождь подвергается оскорблениям, болезненным процедурам, − он должен смиренно внимать грубому обращению с ним. Но на фазе включения все изменяется. В торжественной обстановке член общины, играющий роль жреца, провозглашает претендента верховным вождем, и начинаются ритуалы. Новоиспеченный, перерожденный, ставший великим вождем, обладающий творческой энергией − маной, физическим здоровьем считается ответственным перед предками и богами за процветание и благополучие общины [17, с. 171-179].
Сходные обряды, связанные с вступлением в должность вождей и королей изучены и в других африканских культурах. При этом отмечается, что престарелых вождей увозили далеко за пределы обитания общины, то есть подвергали смерти, однако этот жестокий обычай был все же отменен [4, с. 210-213, 229].
Что касается Египта, материалы, свидетельствующие о существовании рассмотренных обычаев косвенны. Пожалуй, только иконографические детали могут указывать на унизительные процедуры фазы лиминальности. Это изображение вождя/царя спеленутым в плотно облегающую одежду, которая специально была предназначена для церемонии sd [33, тabl. IX], сидящего в наосе в пассивной позе (рис. 5).
Рис. 5. Царь в sd-одеянии, Нехен (по [33])
Вместе с тем в научном обороте существуют изображения, раскрывающие ритуальные действа праздника sd, в которых, кроме царя, участвуют персонажи в зооморфном обличии. Так, на оттиске глиняной печати на небольшом мешочке царя I династии Дена в мастабе N 3035 в Саккаре представлена сцена ритуального бега, в которой чередуются картинки: царь в короне Нижнего Египта бежит за быком; царь в короне Верхнего Египта приближается к сидящему на троне и протягивающему ему чашу павиану [22, р. 64, fig. 26] (рис. 6). В первую очередь изобразительный текст фиксирует тот факт, что праздник sd включал мотив объединения Верхнего и Нижнего Египта при царях I династии (что начало происходить уже при верхнеегипетских царях нулевой династии, начиная с Нармера). Павиан – это бог Большой Белый – царский предок, в образе которого мог выступать и уже скончавшийся царь. Так, на годовой табличке царя Семерхета на троне сидит павиан Большой Белый, но на пьедестале выписано тронное имя царя Нармера [25, fig. 4] (рис. 7). Большой Белый протягивает чашу с каким-то напитком царю Дену в знак его посвящения, признания его прав на египетский трон. Но кто этот бык, за которым бежит царь, осуществляя важнейший ритуал, символизирующий его легитимность на власть над объединенным Египтом, что и удостоверяет печать? Разумеется, это тоже бог и, судя по красной короне Нижнего Египта на царе, он должен символизировать Низовье, коль скоро в другой части изображения на царе, бегущим к Большому Белому, − белая корона Верхнего Египта. На оттиске печати царя Дена перед быком изображен иероглиф spɜt, которым обозначали ирригационное поле или название нома [26, р. 488. N/24], а перед Большим Белым − предположительно рулевое весло от судна [26, p. 499, O/10]. Но царь Ден помазан на трон двуединого Египта, в котором существовали культы обоих богов, причастных к личности правящего царя. В этой же мастабе найден каменный фрагмент с изображением в верхнем регистре быка Аписа, а под ним павиана [22, pl. 19] (рис. 8). Известно, что царь Ден отмечал Hb-sd дважды, о чем свидетельствует посвященная ему секция на Палермском камне и надпись на сосуде из Абидоса [38, р. 108]. На Палермском камне несколько секций также причислены к царю Дену. В одной из них речь идет о двух праздниках: «Появление царя Нижнего Египта» и «Случай первого появления бегущего Аписа». Этот праздник плодородия был тесно связан с праздником sd [21, р. 75]. Также на Палермском камне праздник «бег Аписа» отмечался при царе Сехемхете и Каа I династии и при царе Нинечер II династии [37, р. 243]. Бег царя за быком Аписом указывает на причастность этого бога к торжествам, посвященным царю во время праздника sd. Но тот факт, что на табличке царя Аха из Абидоса тот же бог предстает в виде жертвенного быка (рис. 9) с очевидностью демонстрирует существование представлений об умирании и возрождении бога в обличии быка. Таким образом, уже при I династии подготовлена почва для рождения образа умирающего и воскресающего бога Осириса на основе представлений о жертвоприношении быка Аписа, ставшего его спутником.
Рис. 6. Оттиск печати царя Дена (по [22; 26])
Рис. 7. Годовая табличка царя Семерхета (по [25])
Рис. 8. Бык и павиан, как на рис. 5, Саккара ([22])
Рис. 9. Табличка царя Аха с жертвенным быком. Абидос (по [36])
Бык почитался в раннединастическом Египте как символ высшего сакрального проявление царской власти. Наиболее ранние изобразительные тексты, причастные к этим верованиям, относятся к амратской фазе культуры Нагада, когда сложилась социальная элита с вождем во главе племенных организмов. На некоторых сосудах типа С представлены сцены триумфа социального лидера. На одном из сосудов из могилы 415 в некрополе Умм эль-Кааб (Абидос) в верхней части тулова сосуда изображен вождь, фланкированный его сторонниками. А ниже шествуют бегемоты, в египетской традиции символизирующие врагов, которых тянут на веревках охотники. Впереди этой группы бежит бык, который, как полагает С. Хендрикс, представляет собой наиболее раннее воплощение символа царской власти [27] (рис. 10).
Рис. 10. Сосуд типа С из Абидоса (по [27])
Символические изображения царя в образе быка как существа, наделенного исключительной силой, потенцией, символом космического порядка известны по многим изобразительным текстам, в частности, на церемониальных палетках. На палетке Нармера царь в обличии могучего быка разрушает вражескую крепость [28]. Этот образ представлен и на позднедодинастических церемониальных палетках как предметах ритуальных в сценах сражений воинства царя с побежденными врагами (рис. 11). Вместе с тем быка приносили в жертву в ритуалах, как и царя подвергали символической смерти на церемонии sd.
Рис. 11. Церемониальная палетка Быка (по [36])
Истоки жертвоприношения восходят к тотемическим верованиям первобытности и присущи коллективам с присваивающими формами хозяйства, – охотой и собирательством. Изначально обычай принесения жертвы был связан с тотемическими представлениями о родстве с животными, считавшимися первопредками, что не исключало охоту на них. Совместная ритуальная трапеза способствовала обновлению кровных уз, связывавших членов коллектива друг с другом и с тотемом. Древнейшая коллективная охотничья трапеза убитого животного на следующей фазе развития сознания трансформировалась в «общение» со ставшим священным животным, родовым божеством, умерщвленным как бы «в жертву самому себе». Как отмечал М. Мосс, между жертвой и богом всегда есть сродство: «подобное питается подобным» [13, с. 96-97].
К такого рода жертвоприношению тотемическому предку, сверхъестественному патрону общины относилось и приношение первинок при сезонном регулировании добычи и потреблении продуктов земледелия и скотоводства. При этом лучшие части жертвы предназначались предкам и богам [13, с. 91-99]. Эти древнейшие архетипические представления пережили тысячелетия. В первобытных культурах существовал культ священных животных, своего рода душ бога, и само животное становилось образом бога. Смешение тотемических культов и культа родовых предков дало ростки представлений о душе и ее загробном существовании. Без этого, – отмечал известный советский этнолог С. А. Токарев, – «трудно объяснить происхождение представлений о духах предков и их благодетельной силы» [15, с. 262].
Какие глубинные представления связаны с архетипическим мотивом жертвоприношения? Этой проблемой основательно занимался М. Мосс на богатейших материалах из разных древних и этнологических культур. Он отмечал, что этот ритуал есть освящение: «В жертве всегда присутствует дух, освобождение которого и являлось целью жертвоприношения» [13, с. 40]. Приносившееся в жертву животное становилось сакральным после его разрубания, пролития его крови для высвобождения энергии, порожденной освящением. Участниками жертвоприношения были жертвователь и жрец. И хотя дух жертвы был предназначен для бога, именно жертвователь являлся причиной и целью жертвоприношения [13, с. 70]. Ключевой для понимания этого важнейшего ритуала являлась субстанция духа, который объединял элементы триады следующим образом: 1. Жертва являлась медиатором между жертвователем и богом, которому предназначена жертва; 2. Жертвователь должен был сам стать богом. Для этого перед ритуалом он проходил инициацию «перехода в бога или родства с ним»; 3. Жертва отождествлялась с богом. Жизнь бога становилась непрерывной цепью страданий и воскрешений. Жертва богу тождественна жертве бога [13, с. 17, 25, 94-96]. Освобожденный дух жертвы отлетал при ее расчленении, устремляясь в мир богов, а затем спускался к жертвователю. Таким образом, жертвователь (который выступает и в качестве коллективной личности, символизируя социум, как царь) приобретал (или подтверждал) свой религиозный и социальный статус. В жертвоприношении жертва играла роль посвящаемого, но так как изначально она отождествлялась с жертвователем, он – в силу психологического замещения – также очищался и получал новый обрядовый статус [7, с. 103].
В Египте истоки культа бога в обличии быка восходят к додинастическому времени, когда существовал обычай хоронить почитаемых животных, в том числе и быков, в отдельных могилах. Но и в раннединастическое время могилы этих животных в числе других, в том числе и диких, входили в погребальные комплексы в элитных некрополях Нехена, датированных периодом Нагада IС-IIА [24, р. 157-191, fig.3-8].
В погребальном обряде додинастического Египта среди жертв, положенных в могилу, была передняя нога быка. Наряду с туалетными палетками и сосудами, нога быка является ритуальным предметом, за которым стоят мифо-религиозные представления. В качестве символов эти предметы многозначны. Символы имеют глубоко архаическую природу, − писал Ю.М. Лотман, − и восходят к дописьменной эпохе, «когда они представляли собой свернутые мнемонические программы текстов и сюжетов, хранившихся в устной памяти коллектива... Способность сохранять в свернутом виде исключительно обширные и значительные тексты сохранилась за символами» [9, с. 241]. Если туалетные палетки указывают на древние верования, отраженные в ритуале «отверзания уст и очей», причастном к представлениям об оживлении умершего, а сосуды связаны с ритуалом подачи питья и очищения, то оставленная в могиле нога быка указывает на верования, имеющие глубокие корни (подробно об этих ритуалах см.: [18, с. 226-296]), истоки которых восходят к первобытным тотемическим представлениям, к охотничьему быту, что сохранили значительно более поздние источники.
Памятники изобразительного искусства раннединастического Египта, причастные к институту царской власти, запечатлели ритуал жертвоприношения быка, в том числе по случаю праздника sd, на упомянутой церемониальной булаве Нармера (рис. 3). В нижнем регистре в числе прочих жертвоприношений с указанием их количества изображен бык. На годовой табличке царя Дена также в нижнем регистре были изображены жертвы, принесенные в связи с церемонией Hb-sd, однако эта часть плохо сохранилась (рис. 4). На деревянной табличке первого царя I династии Аха на втором регистре сверху изображен приготовленный к жертвоприношению лежащий бык [36, fig. 44] (рис. 9). На платформе восточного фасада мастабы царя Дена в царском некрополе Саккары были выставлены триста вылепленных из глины голов жертвенных быков с натуральными рогами [21, fig. Ill. 8] (рис. 12). В Раннем царстве заупокойный культ царей отправлялся в поминальных царских святилищах. При них существовали изображенные на цилиндрических печатях сооружения с помещениями для жертвоприношений, жертвенниками, загонами для скота и скотобойнями. Существовали также «дома заклания», где служили жрецы бога Анубиса, причастного к погребальному обряду. В надписях на сосудах конца I−II династий встречается термин «божья жертва», включающий значение «заупокойной жертвы» [14, с. 28-29]. О причастности жертвоприношения быка к заупокойному культу свидетельствуют Тексты пирамид, написанные на стенах внутренних помещений этих погребальных сооружений при царях V–VI династий, спустя сотни лет после Раннего царства. В одном заклинании говорится о том, что рога жертвенного быка богов – это холмы Хора и Сетха (Pyr. 306, § 480), которые возвышаются в восточной части неба, на пути умершего царя, переправляющегося в Поля Тростника (Pyr. 470, § 914−918), т. е. в направлении восхода солнца, в каком бычьи головы были установлены на восточной стороне мастабы царя I династии Дена. Но, как умерший царь, так и отмечавший праздник sd в переходном обряде, проходил через фазу лиминальности; в церемонии sd он умирал символически в старом качестве и возрождался как утреннее солнце.
Рис. 12. Головы быков на панеле мастабы царя Дена. Саккара (по [21])
Жертвоприношение быка являлось центральным ритуалом во время царских праздников, и суть его была связана с верованиями в высвобождение духа жертвы, которая считалась богом. А жертвователь, то есть сам царь, в честь которого совершалось жертвоприношение, приобретал (или подтверждал) свой религиозный и социальный статус, пройдя через символическую смерть во время ритуалов.
Универсальные представления о жертве быка и его расчленении сохранились в значительно более позднее время в мифах и ритуалах о первой жертве, с которыми ассоциировались представления об умирающих и воскресающих богах, к числу которых принадлежал и египетский Осирис, а бык Апис считался его спутником, животной формой бога. И как быка Аписа расчленяли во время ритуала жертвоприношений в раннединастическое время, так и в Текстах пирамид первый царь Египта бог Осирис был убит и расчленен его братом-близнецом богом Сетхом.
В одном изречении Текстов пирамид жрец в образе бога Хора, сына Осириса расчленяет жертвенного быка Сетха и произносит речь: «О, ты, кто поразил моего отца, кто убил более великого, чем ты, ты убил моего отца, ты убил того, кто более великий, чем ты» (Pyr. 580, § 1543). Хор сообщает Осирису о том, что он убил того, кто убил Осириса, то есть, Сетха,− разрубил дикого длиннорогого быка, на спине которого был Осирис. Хор отрезал его голову, хвост, ноги и руки (?), которые принадлежат Анубису и Осирису-Хентиментиу. Лучшие части туши жертвенного быка Сетха предназначены и другим богам (Pyr. 580, §1544−1550) [23, р. 234-235]. О жертвоприношении быка говорится в Рамессейском Драматическом папирусе времени правления фараона Сенусерта I в Среднее царство [5, с. 61]. В этом источнике жертвенный бык назван богом Тотом, и Е. Отто полагал, что речь идет о некоем древнем «таинственном и опасном боге луны» [31], хотя совершенно очевидно, что этот красный дикий бык – Сетх. Жрец, исполняющий роль бога Хора, совершает ритуал расчленения жертвенного быка. А присутствующая здесь богиня Исида в обличии коршуна вопрошает жертвенного быка: «Две твои губы сделали это. Рот твой все еще открыт?» [цит по: 35, р. 168]. Здесь воспроизводится ритуал «отверзания уст» в погребальном обряде уже с додинастического времени. В оправдательной речи Сетха звучит ложь, оговор Осириса: «Это он напал на меня… Это он настиг меня».
При различном подходе к классификации жертвоприношений в литературе, в данном случае, как представляется, наиболее аргументированной является та, что называет жертвоприношения сакрализующими и искупительными [13, с. 68]. Как видно из приведенных источников, жертвенным быком является бог Сетх – брат-близнец и убийца Осириса. Мифологическое сознание допускает сочетание отождествлений и противопоставлений как необходимого инструментария «мифологического структурирования в плане классификаций, построения систем и сюжетов» [12, с. 233], основанном на биполярности, противостоянии представлений о космосе и хаосе, персонифицированных мифологическими образами. В мифах о братьях-близнецах один представляет начало положительное, другой символизирует зло. Такая, присущая мифологическому мышлению структура порождает мифы, подобные осирическим. В этой связи Ян Ассман рассматривает жертвоприношение Сетха как искупление. В расширительном смысле, – отмечал египтолог – жертвенный дар становится «возмещением» за утраченную жизненную силу, злодей – персонификация причины смерти (Сетх), нечто вроде «козла отпущения», мститель (Хор) возмещает утраченную жизненную силу [1, с. 154-155].
Собственно, и Осирис как первая жертва стал мифологическим прообразом для умерших Осирисов-имярек в погребальном обряде, но также и в празднике sd, на котором раннединастические цари после фазы лиминарности, принятии символической смерти переходили к фазе включения, совершая ритуальный бег за жертвенным быком Аписом, что символизировало возрождение, обновление, получение прав на египетский трон через страдания и символическую смерть. Иначе говоря, этот мотив отражает принцип восстановления гармонии, баланса, порядка вещей, победе космоса над хаосом.
Почему царский праздник sd получил такое название? В царской иконографии бычий хвост, наряду с такими важными атрибутами, как венцы Верхнего и Нижнего Египта, инсигнии власти: булава, мухобойка, скипетр хека (HqA) в виде крюка, фальшивая борода, имел непосредственную связь с символикой царской власти. Вместе с тем на додинастических артефактах царь, как и люди бога Хора в образе сокола, носил во время ритуалов хвост дикой собаки или шакала, которые, как и хвост быка на одеянии царя на празднике sd, символизируют силу, мощь и агрессию диких животных: быка, льва, скорпиона и дикой собаки, и эти образы символизировали царскую власть [29, р. 234-242].
Мотив бега царя за быком на празднике sd отражает сохранившиеся древнейшие представления об охоте. Вместе с тем целью его было подтверждение высокого статуса владыки Египта в условиях сложения двуединого раннего государства. На изображениях царей Раннего царства и позднее они воплощены с хвостом быка. Фонетическая основа слова хвост − sd такая же, как и в написании словосочетания праздника sd −  Hb-sd [23, р. 166, 256] с бассейном и сдвоенным павильоном, символизирующим власть над Египтом. На одной печати царь I династии Джер изображен в двух павильонах праздника sd, − в короне Верхнего и Нижнего Египта [32, tabl. XV/108] (рис. 13).
Hb-sd [23, р. 166, 256] с бассейном и сдвоенным павильоном, символизирующим власть над Египтом. На одной печати царь I династии Джер изображен в двух павильонах праздника sd, − в короне Верхнего и Нижнего Египта [32, tabl. XV/108] (рис. 13).
Рис. 13. Царь Джер во время праздника sd в двух павильонах (по [32])
Таким образом, праздник мог называться «добычей хвоста», «бег за хвостом», что отражает символический смысл получения божественного могущества царя, претендующего на подтверждение легитимности своего обновленного правления. Древний родовой тотем вождя стал богом царя, с которым он отождествлялся, демонстрируя в ритуальном беге божественную мощь, магическую силу, творческую энергию – ману, символизированную бычьим хвостом (как и быком). Иконография бега царя за быком на празднике sd ассоциировалась с праздником бега бога Аписа. А маркеры dbnw, между которыми царь совершал ритуальный бег, символизировали пространство Верхнего и Нижнего Египта, власть над которыми царь подтверждал, успешно пройдя все ритуалы праздника sd.
Проанализированные материальные источники додинастического и раннединастического Египта, посвященные царскому празднику sd, рассмотрены в контексте концепции культурной памяти. Как работает механизм хранения и передачи некоторых сообщений (изображений как текстов) и выработки новых? Культура и есть хранилище надындивидуальной, коллективной, общей памяти. Идентичность цементировалась за счет коммуникации из поколения в поколение, передачи духовных ценностей, актуализированных в форме мифов и ритуальной практики. Особую роль играл культ предков, наделивших знаниями, передаваемыми через опыт. Изобразительное искусство служило важнейшим каналом передачи информации о картине мира, к которому принадлежал и социум во главе с царем, отвечающим за его процветание. В ритуалах общество воспроизводило изначальный космический порядок, созданный первопредками и богами. «Культура в соответствии с присущим ей типом памяти отбирает во всей этой массе сообщений то, что, с ее точки зрения, является “текстами”, т. е. подлежит включению в коллективную память» [10, с. 74]. В процессе развития в культуре сочетаются два взаимосвязанных процесса, − верность традиции и новаторство [6, с. 17-34], что сохраняет ее основания в перспективе культурно-исторических трансформаций. В этом контексте царский праздник sd является одним из ярких примеров хранения в культурной памяти давно минувших тотемических представлений, трансформированных, получивших новое содержание в культе предков царя, символизируя обновление мироздания через символическую смерть и возрождение на празднике sd, гарантирующем владыке тысячи хеб-седов.
Об авторах
Татьяна Алексеевна Шеркова
Центр египтологических исследований РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: sherkova@inbox.ru
ORCID iD: 0000-0002-6203-1959
кандидат исторических наук
Россия, МоскваСписок литературы
- Ассман Ян. Египет. Теология и благочестие ранней цивилизации. М.: Присцельс, 1999. 365 с.
- Ассман Ян. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004. 363 с.
- Геннеп ван А. Обряды перехода. М.: Восточная литература РАН, 2002. 198 с.
- Кочакова Н.Б. Рождение африканской цивилизации. Ифе, Ойо, Бенин, Дагомея. М.: Наука, 1986. 302 с.
- Лаврентьева М.Ю. Рамессейский драматический Папирус: перевод и комментарий. М.: Издательство ЦЕИ РАН, 2016. 206 с.
- Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Наука, 1983. 535 с.
- Лич Э. Культура и коммуникация. Логика взаимосвязи символов. М: Восточная литература РАН., 2001. 141 с.
- Лотман Ю.М. Культура и взрыв // Семиотика. М.: Гнозис, 1992. 270 с.
- Лотман Ю.М. Символ в системе культуры // Семиосфера. СПб.: Искусство-СпБ, 2004. 703 с.
- Лотман Ю.М. Чему учатся люди: статьи и заметки. М.: Центр книги Рудомиро, 2010. 413 с.
- Матье М.Э. Хеб-сед (из истории древнеегипетской религии) // Избранные труды по мифологии и идеологии Древнего Египта // Исследования по фольклору и мифологии Востока. М.: Восточная литература РАН. 1996. С. 71-91.
- Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М.: Восточная литература РАН, 1995. 406 с.
- Мосс М. Социальные функции священного. Спб.: Евразия, 2000. 448 с.
- Савельева Т.Н. Храмовые хозяйства Египта времени Древнего царства. М.: Восточная литература, 1992. 179 с.
- Токарев С.А. Ранние формы религии. М.: Из-во политической литературы, 1990. 320 с.
- Топоров В.Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 7-61.
- Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Наука, 1983. 277 с.
- Шеркова Т.А. Рождение Ока Хора: Египет на пути к раннему государству. М.: Праксис, 2004. 369 с.
- Юнг К.Г. Психологический комментарий к «Бардо Тходол» // О психологии восточных религий и философий. М., 1994. 253 с.
- Adams B., Ciałowicz K. M., Protodynastic Egypt. Ox., 1997. 72 p.
- Emery W. Archaic Egypt. Culture and Civilization in Egypt. Five thousand years ago. London: Pinguin books, 1961. 269 p.
- Emery W. Excavations at Saqqara. The Tomb of Hemaka. Cairo: Government Press, Bulaq, 1938. 64 p. 42 Рl.
- Faulkner R.O. Ancient Egyptian Pyramid Texts: Ox. Univ. Press, 1969. 330 p.
- Friedman R., Van Neeler W., Linseele V. The elite predynastic cemetery at Hierakonpolis: 2009–2010 update // In: Friedman R., Fiske P. N. (ed.). Egypt and its origin 3. Proceedings of the third International Conference “Origins of the State. Predynastic and Early dynastic Egypt”. London 27 th Julu – Ist August 2008. Leuven, Paris-Napole, 2011. Р. 157-191.
- Fritschy W. A New Interpretation of the Early Dynastic so-called ‘Year’Labels.‘Balm Labels’ and the Preservation of the Memory of the King // The Journal of Egyptian Archaeology. 2021. V. 107. №1-2. P. 207-224. https://doi.org/10.1177/030751332110603.
- Gardiner A. Egyptian Grammar. L.: Oxford University Press, 1950. 646 p.
- Hendrickx S. Hunting and social complexity in Predynastic Egypt //Bulletin des Séances Mededelingen der Zittingen. 2011. P. 237-262.
- Hendrickx S., De Meyer M., Eyckerman M. On the Origin of the Royal False Beard and its Bovine Symbolism. In: Aegyptus est Imago Caeli. Studies Presented to Krzysztof M. Ciałowicz on His 60-th Birthday. Krakow, 2014. P. 129-143.
- Le Blane M.J. The Zoomorphic Transformation of the King in Early Egyptian Royal Military Victory Rituals and Its Relationship to the Sed Festival // GENIM 11. Cahiers de l`ENiM. Apprivoiser la sauvage. Taming the wild. Montpellier. 2015. P. 229-244.
- Lightheim M. A. Ancient Egyptian literature. Berkley – Los Angeles – London, 1975. 245 p.
- Otto E. An Ancient Egyptian Hunting Ritual // Journal of Near Eastern Studies, 1950. Vol. 9 N. 3. Р. 164-177.
- Petrie F.W.M. Abydos. Pt. I. L., 1902.
- Quibell J.E., Green F.W. Hierakonpolis II (Egypt Research Account, V). L., 1902. 27 p.
- Quibell J.E., Hierakonpolis I. (Egypt Research Account, IV). L., 1900. 12 p.
- Roth A.M. Fingers, Stars, and the “Opening of the Mouth”: the Nature and Function of the nTrwj-blades // Journal of Egyptian Archaeology, 1993. Nо 79. Р. 57-74.
- Spencer A.J. The Rise of Civilisation in the Nile Valley. L.: British Museum Press, 1993. 128 p.
- Wilkinson T.A.H. Early Dynastic Egypt. London, New York, 1999. 373 p.
- Wilkinson T.A.H. Royal annals of ancient Egypt: the Palermo Stone and its associated fragments. London and New York, 2000. 287 р.
Дополнительные файлы