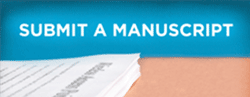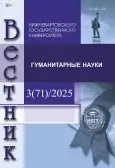Oral sources in the study of the subjectivity of Tyumen citizens (1964–1985): methods and techniques of analysis
- Authors: Fedorova D.A.1
-
Affiliations:
- The Industrial University of Tyumen
- Issue: No 3 (2025)
- Pages: 81-92
- Section: Domestic history
- URL: https://vestnik.nvsu.ru/2311-1402/article/view/680052
- DOI: https://doi.org/10.36906/2311-4444/25-3/08
- ID: 680052
Cite item
Full Text
Abstract
The study has two purposes. The first one is an overview of potential oral sources. The second is a practical application of the oral history methods and ways of analysis and interpretation of interview data facilitating subjectivity study. In the research, subjectivity is a set of beliefs, experiences, feelings, perceptions and preferences which are belong to the certain individual and form an opinion about of oneself and the environment. Subjectivity show itself as an attitude towards the city, society where a person lived and performed activities, as well as the events experienced. We used oral witness where the narrator told events from his point of view. This creates potential for study subjectivity via oral history methods which subject is perception of past phenomena and processes by an individual with his views and worldview. The materials obtained during the interview are first introduced into research. As the oral history method, we used depth targeted interview allowing to obtain detailed information on the respondent’s perceptions and feelings, his vision of the historical period when he makes his past based on life experience thereby demonstrating subjectivity. For the analysis of the oral sources, we used а narrative method. It based on the linguistic interpretation of a text which is embodied with highlighting semantic dominants, analysis of vocabulary, a way of pronunciation and construction of phrases. It allows you to identify the emotional assessment of the events broadcast by the narrator, as well as the feelings, moods and experiences associated with them. In the reconstructive cross-sectional analysis, we reveal new facts, their confirmation and detailing using oral evidence, combined with other types of sources. Thereby reconstructing the perception of events or phenomena. Finally, the citation method is based on the analysis of a set of statements devoted to a particular issue, which helps to elucidate the perception of the studied phenomenon from new angles.
As a result, based on the potential of the considered methods which purpose are identifying and reconstruction subjectivity, the use of the oral sources for its study seems quite perspective.
Full Text
Антропологизация исторической науки, как одна из ведущих тенденций ее развития на современном этапе, определяет человека в качестве главного объекта исследования [7, c. 537]. Его деятельность, мировоззрение, взаимоотношения с окружающими людьми рассматриваются как движущие силы исторического процесса, а многие события объясняются с точки зрения поведения личности, ее мотивации и личных побуждений [9, с. 25, 31; 4, с. 197].
В результате история рассматривается в «человеческом измерении», когда происходит обращение к внутреннему миру индивида, его жизненным установкам, представлениям и оценке событий [1, с. 128; 2, с. 265]. Данные явления объединяются в понятие субъективность, употребляющееся в гуманитарных науках в нескольких значениях. Выделим некоторые из них. Первое – это концептуализация человека как единой сущности, обладающей разумом. В основе субъективности лежит поведение, основанное на сознании [18, p. 4511]. Второе определение обращается к множественным субъективностям, существовавшим в истории человечества, и к тому, как эти субъективности формируются и фрагментируются в диалоге с политическими, социальными и культурными институтами и явлениями. Человек в этом контексте рассматривается как конструкция дискурса или персонаж [19, p. 81]. Третье значение рассматривает субъективность с точки зрения самосознания и жизненного опыта человека, взаимодействия окружающим миром и его осмысления [16, p. 566].
В нашем исследовании субъективность – совокупность убеждений, опыта, чувств, восприятий и предпочтений, присущих конкретному индивиду и составляющих как мнение о самом себе, так и об окружающем мире. Субъективность проявляется в отношении к городу, обществу, где человек проживал и вел деятельность, пережитым событиям, а также самоощущении «внутри» обстоятельств и условий, в которых он находился.
Для изучения процессов и явлений историк обращается к разного рода источникам, каждый из которых обладает определенным потенциалом. Со второй половины XX в. в исследовательской практике активно используются устные источники, получающие все более широкое применение как для извлечения новой информации [8, с. 88], так и для реализации новых подходов, в том числе связанных с изучением «человека в истории» [3, с. 185].
Специфика устных источников состоит в том, что в их основе всегда находится человек с его восприятием действительности и оценками субъективного характера прямо от него исходящими [13, c. 99; 6, с. 115]. В устном свидетельстве рассказчик представляет свое видение событий, не только фактологическую, но и оценочную информацию [14, с. 15-17], что составляет преимущество такого вида источника и создает перспективы для изучения субъективности методами устной истории, предметом которой является восприятие прошлых явлений и процессов личностью с ее взглядами и мировоззрением.
В контексте нашего исследования устная история рассматривается как совокупность методов и приемов, направленных на изучение субъективности путем проведения интервью. Нами предпринята попытка обзора потенциальных возможностей устных источников и применения на практике методов устной истории, а также способов анализа и интерпретации материалов интервью, способствующих изучению субъективности.
Работа с устными источниками представляет собой последовательность процедур по организации интервью, документированию полученной информации, а также введению новых источников в научный оборот.
Как правило, устный источник не просто добывается историком, он создается, причем его создание – двухсторонний процесс, в котором участвует как информант, у которого берется интервью, так и исследователь, проводящий беседу, а впоследствии обработку устного материала, осуществляя перевод речи с аудионосителя в текст [17, pp. 38-40]. В конечном счете, это обуславливает субъективность источника, где представлены как видение событий информантом, так их последующее изложение исследователем. В этом контексте главная задача ученого – свести к минимуму наличие собственной позиции относительно транслируемой информации, и как можно подробнее, детальнее представить ее и затем анализировать с целью выявления оценки исторического процесса непосредственными его участниками.
Для осуществления исследования проводится интервью – целенаправленно проведенная беседа о жизненном пути человека в контексте исторических событий и явлений. Интервью имеет как прикладное значение в отношении сбора информации, так и является основным методом устной истории.
В нашем случае проводится глубинное целевое интервью как наиболее целесообразный прием изучения субъективности. Такой тип интервью предполагает проведение подробной доверительной беседы, цель которой – получение развернутых ответов на предмет чувств и эмоций респондента, его видения эпохи, когда он реконструирует собственную историческую реальность на основе жизненного опыта, проявляя тем самым субъективность. Посредством интервью формируется нарратив – повествование индивида о пережитых им событиях и явлениях, в котором выражены их восприятие и оценка.
На начальном этапе изысканий осуществляется поиск респондента. Критерии поиска во многом обуславливаются тематикой и периодизацией исследования. Нас интересовали тюменцы, проживавшие в городе в 1964–1985 гг. Для более обширной выборки необходим разнообразный круг опрашиваемых. Их принадлежность в изучаемый период к различным возрастным, социальным группам, различия по полу и роду деятельности, уровню образования позволит с разных сторон рассматривать интересующее явление, получая взгляд «изнутри».
Успех исследования зависит не только от наличия широкого круга информантов, но и то того, насколько опрашиваемый желает и может предоставить информацию о себе, своих взглядах, позициях, действиях в определенной исторической ситуации. После налаживания контакта и договоренности о встрече происходит само интервью, проводимое в форме беседы. Обязательно обговаривается возможность фиксации нарратива на аудионоситель информации. Это очень важно, так как при изучении субъективности именно аудиозапись позволит в полной мере зафиксировать оценки и отношение рассказчика, которые выражены не только в смысле слов, но и в конструировании фраз, в интонациях, паузах, междометиях, проявлениях эмоций и т. д.
Вопросы задаются по заранее составленной анкете, сформулированной по проблемному принципу. Тип вопросов – открытые, предполагающие развернутый ответ. Как правило, анкета разрабатывается в процессе изучения проблемы, в отношении которой проводится интервьюирование. Затем, при необходимости она может дорабатываться и уточняться.
В начале встречи проводится вступительная беседа, знакомство с биографией респондента. На данном этапе уже можно получить ценную информацию: описание жизненного пути нередко само по себе содержит оценку событий, личное мнение, ментальные компоненты. Бывает, опрашиваемые, если встреча происходит в домашней обстановке, демонстрируют фотоальбомы, погружаясь в воспоминания. Это помогает общению, так и может натолкнуть на рассказ об интересных деталях и подробностях. В ходе беседы могут формулироваться новые вопросы уточняющего характера, проясняющие тему. В частности, в рамках изучения субъективности задаются вопросы, направленные на поиск смысла и внутренний мир респондента: «Почему так произошло, что для вас это значило?»; «Как вы себя при этом чувствовали?»; «Каково ваше мнение о данном событии/явлении?».
Затем может состояться еще одна встреча для уточнения информации. Обычно такая необходимость возникает при транскрибировании – записи текста, в ходе которой создается транскрипт – письменная версия устного исторического источника. Транскрибирование производится вручную, с учетом всех пауз, междометий, повторов, когда полностью воспроизводится речь респондента, в том числе с употреблением просторечных слов и жаргонизмов. Все перечисленные элементы передают отношение опрашиваемого к проблеме, в том числе, скрытое, не высказанное напрямую.
Таким образом, изучение субъективности методом интервью осуществляется в несколько этапов. Это составление опросника, налаживание контакта с респондентом и проведение беседы, затем – транскрибирование полученного нарратива. Интервьюирование определяет информативный потенциал устных источников, заключающийся в наличии сведений, касающихся жизненного опыта, чувств и восприятий рассказчика.
В первую очередь, интервью содержит эмпирический материал, необходимый для воссоздания той или иной эпохи. Это могут быть сведения о событиях как локального, так и общегосударственного масштаба. Но не менее интересным и важным предстает их видение, когда опрашиваемый человек предстает как актор, который на основе мировоззрения и опыта не просто рассказывает о пережитом, а демонстрирует представление о нем, тем самым реконструирует свою историческую реальность, основанную на картине мира.
Так, значимым событием в жизни Тюмени стало обрушение моста через реку Тура в 1982 г.: «Когда в Тюмени мост рухнул, у нас об этом не передавали, фотографировать нельзя было. Я помню, у нас сосед женился. Мы поехали к Вечному огню. И мы видим – мост упал. Мы давай фотографировать – а там милиция запрещает»1. На первый взгляд в приведенном отрывке перед нами предстает прежде всего, фактический материал. Но если углубиться, вчитаться в текст, можно проследить и оценку описываемого случая: «не передавали», «фотографировать нельзя было». Тем самым в сознании респондента описанный эпизод предстает как инцидент, который замалчивался.
Следующие сведения касаются события общегосударственного значения. Причем его восприятие первой частью опрашиваемых выражено как факт, а второй – как трагедия, влекущая за собой большие перемены. По нашим наблюдениям, различие в оценке пережитого в некоторой степени определялось гендерной принадлежностью интервьюируемого. Так, представители мужского пола несколько сдержанно формулировали ответ на вопрос по поводу мыслей и эмоций, связанных с кончиной Л.И. Брежнева: «Умер и умер человек»2; «Элементарно, он же не мог уже»3.
Женщины передают свои впечатления несколько по-иному: «Брежнев умер, было переживательно… Как-то замедлилось… Такое чувство, что эпоха ушла»4; «Огорчались все, боялись же, что Брежнев столько лет был, все огорчились, паника была явная»5. «Это было не чувство потрясения, а предчувствие, когда его хоронили. Он умер 7 или 8 ноября. И транслировали по телевизору его похороны. И когда его туда опускали в могилу, то ли веревки у них там не выдержали, то ли что. Он с таким грохотом туда полетел, и все. И народ сразу заволновался, что это примета-то плохая. И предчувствие было такое, что ничего хорошего нас не ждет»6.
В приведенных нарративах передаются как личные, так и общественные настроения: чувство тревоги и перемен, опасения за завтрашний день. Прежде всего, это выражено в лексике, употребляемой рассказчицами для описания чувств и эмоций: «переживательно», «огорчились», «паника», «примета это плохая».
Вышеописанный способ представляет собой нарративный или семантический метод – совокупность приемов анализа лингвистических форм, позволяющий выявить отношение рассказчика к событиям, получить их оценку. Метод основан на положении, что посредством языка конструируется субъективная идентичность человека, проявляющаяся через значение слов, стиль, терминологию, фразеологию и другие лингвистические формы [12, c. 80]. Получение данных субъективного характера во многом связано со спецификой нарративов, полученных в ходе общения с опрашиваемыми. По наблюдениям ученых, устное повествование полно избыточных выражений и неоправданных отклонений; в нем много субъективного, эмоционального и гипотетического, часто используются одни и те же слова и образные выражения [20, p. 134].
В рамках нарративного метода также предполагается выявление скрытых значений, обнаруживающихся в самой речи. В этой связи идет обращение к интонации, междометиям, паузам, вздохам и другим эмоциональным признакам. К примеру, так опрашиваемая отвечает на вопрос о своих впечатлениях после знакомства с окружающей обстановкой в Тюмени: «(глубокий вздох) Ой, я же приехала с Украины. Там цветущие райские места. У нас всегда было чисто, никакой вот такой грязи, как здесь, вообще не было»7. Во фразах проявляется сравнение, противопоставление нового места жительства и края, где обитала рассказчица.
Частота употребления слов в нарративе имеет немалое значение. Например, так тюменка высказывается о своем знакомстве с сибирским краем: «Когда приехала сюда, я вообще в ужасе была. Во-первых, я ехала на поезде, и мы как Уральские горы переехали, тут эти леса, где ели растут такие могучие, они такие мрачные, дома вот эти деревянные, мрачные. На меня прямо тоска напала. А в Тюмень я приехала – я вообще затосковала. Так уж мне очень не понравилось здесь»8. Таким образом, слова, повторяющиеся в данном фрагменте, и передают настроения рассказчика: это «тоска» и «мрачность», становясь смысловыми доминантами высказывания.
Построение предложения также проявляет восприятие событий: «Мой отец, ему было 15 лет, его мать, отец, имели несколько детей. У них были там лошадь, корова, ну все хозяйство. И все. Ну какие вот они кулаки!»9. Последняя фраза, посредством своей структуры и восклицания показывает отношение рассказчицы, поведавшей историю раскулачивая своей семьи, оказавшейся в итоге на поселении.
Конструирование фраз передает наплыв эмоций, возникших при воспоминании о том или ином эпизоде. К примеру, одна из респонденток так отозвалась о своем первом замужестве: «Это чистая, так сказать… такая… потому что он… В четыре года, Лена у меня, мы разошлись… Поэтому, я сразу поняла, что бесполезно, никаких исправлений быть не может… Зачем мне это все…»10. Приведенное изложение: отрывочное, с многочисленными паузами свидетельствует, что, даже спустя годы, респонденту тяжело погружаться в свои воспоминания, вызывающие эмоциональный отклик. Следовательно, они имеют большое значение для рассказчика, воспринимаются им драматично.
Таким образом, при нарративном методе лингвистическая интерпретация используется в качестве инструмента анализа, когда текстовая форма рассматривается как отражение представлений актора, транслирующего свою жизненную историю, а субъективность проявляется через лексику, манеру произношения и конструирования текста, а также смысловые доминанты – в нашем случае повторы, посредством которых респондент делает акцент на важном для него явлении или его характеристике. Особенностью данного метода является то, что анализ текстовых форм позволяет выявить контекст, скрытое значение высказывания, тем самым обратиться к эмоциям и чувствам, оценкам и мнениям нарратора, в том числе не транслируемым напрямую.
Большой потенциал для интерпретации и введения устных источников в научный оборот представляет реконструктивный или реконструктивный перекрестный способ анализа, заключающийся в том, что с помощью устных свидетельств, сочетающихся с другими видами источников, происходит выявление новых фактов, их подтверждение и детализация [5, с. 640], тем самым реконструируется восприятие событий или явлений.
Так, устные источники во многом помогают реконструировать картину восприятия горожанами Тюмени в 1964–1985 гг., в чем и проявляется их городская субъективность. С одной стороны, в сознании тюменцев город предстает как «грязный, заброшенный»11 в силу недостаточного уровня благоустройства и развития комфортной городской среды, при описании которой почти каждый респондент употребил слово «грязь». Дело в том, что внутригородское пространство Тюмени в означенный период эволюционировало фрагментарно, замедленными темпами, что выражалось в недостаточном развитии социально-бытовой инфраструктуры, культурно-досуговой сферы и общественного транспорта [10, c. 56, 65], когда «автобусное сообщение было отвратительное, просто отвратительное»12. С другой стороны, Тюмень воспринималась как динамичная и развивающаяся «нефтяная» столица: «Она начала строиться, возводиться. Как нефть открыли – деньги «поплыли». Уже, естественно, совсем по-другому было. Уже на город походил. Как Свердловск каменный, так и Тюмень начала…»13.
Кроме того, в сознании жителей город предстает перспективным в отношении трудоустройства и достойного заработка. Свидетельства респондентов подтверждают данные статистики и социологических исследований [10, c. 71, 72], демонстрирующие, что столица региона в 1964–1985 гг. привлекала жителей в силу появления новых организаций и предприятий, являясь центром Западно-Сибирского нефтегазового комплекса: «В Тюмень люди приезжали, чтобы заработать. Все, кто мало получал в средней полосе маленькие зарплаты, приезжали в Тюмень. Хорошие зарплаты были, хорошие специалисты, они оплачивались, и все было замечательно»14.
Продовольственный вопрос также мог стать фактором, побуждавшим сделать выбор места жительства в пользу «нефтяной столицы»: «Мы переехали в (19)69 наверное. То есть, когда у нас стало в Свердловске плохо с едой, я его уговорила, давай поедем в Тюмень. А в Свердловске мяса невозможно было купить, фруктов не было. А у нас в Тюмени апельсинов, мандаринов завались… Я уговорила Леню, мужа своего, переехать в Тюмень. Давай, поедем, там все-таки продукты в магазинах есть хорошие»15.
В ходе исследования нами были выявлены и внутренние факторы формирования городской субъективности, связанные с характеристиками личности и жизненным опытом. Данные материалы были получены как со страниц периодических изданий, так и при общении с респондентами. Так, восприятие городской среды определяли культурные запросы, сравнительные ассоциации, а также повышение уровня образования и материального благосостояния граждан [11, c. 181].
В отношении внутренних факторов весьма примечательны следующие воспоминания: «Вот был серый город в это время…. Вот тогда, наверное, не представляла другой. Странно, знаешь, почему – вот родилась в этом сером цвете, и он нормой стал. Я может, не осознавала, что надо чего-то менять. Я создала себе мир, в этом мире мне было комфортно, у меня интересные люди заменяли вот эту серость жизни. Для кого-то, для другого человека – он гуляет по городу и его это просто переворачивает, от того, что город серый, мрачный, никакой. Это правильно, это индивидуальность человека. Человек есть общественник, есть индивидуал. Вот для индивидуалов – они уже обращали: “Вот какая ерундень”. А для таких, как я, это заменялось тем, что вокруг меня были интересные люди. Из-за этого мне было абсолютно все равно – в сером я здании нахожусь или не в сером»16.
Приведенный нарратив иллюстрирует, как восприятие материальной действительности обуславливается внутренними установками и запросами, а также степенью их удовлетворения. Интересные занятия и круг общения определяли жизненное устройство рассказчицы, поэтому городская обстановка мало занимала сознание и не была ведущим фактором, формирующим картину мира.
В целом, городская субъективность тюменцев во многом проявлялась в противоречивом отношении к Тюмени. С одной стороны – это неблагоустроенный серый город, с другой – динамичный, развивающийся, ставший местом жизненных перспектив, где созданы условия для трудоустройства и материального благосостояния.
В результате, при использовании реконструктивного перекрестного анализа устные источники способствуют комплексному пониманию субъективности, вплетаясь в общую канву описания исторической действительности, дополняя и проясняя факты, тем самым открывая новые аспекты освещения проблемы.
Получению новых данных, уточнению информации способствует также цитатный метод, основанный на анализе совокупности высказываний. Так, материалы опросов помогают выявить «внутреннее наполнение» такого явления советской действительности, как демонстрация, традиционно проводившаяся в честь праздников 1 мая – День международной солидарности трудящихся и 7 ноября – День Великой Октябрьской революции.
Проводились демонстрации следующим образом: граждане, выстроившись в колонны на главной улице города, под музыку духового оркестра проносили транспаранты с лозунгами, флаги, воздушные шары, фотографии руководителей КПСС, героев Советского Союза и других видных деятелей. Колонны формировались по принципу принадлежности к тому или иному предприятию или организации, члены которой в обязательном порядке должны были участвовать в шествии, за редким исключением, например, по причине болезни. Причем мероприятие рассматривалось его участниками не просто как сугубо идеологическое или «обязаловка», когда «идти иной раз не хотелось, но надо было»17.
Устные источники предоставляют нам гамму чувств и восприятий, связанных с участием в демонстрациях, воспринимавшихся и как «святое дело»18, и как возможность провести время: «Ну интересно было, чего там, толпа собиралась побездельничать. Весело было»19. Это действо, закрепленное в сознании как традиция советской повседневности, сопровождалось ощущениями равенства и сплочения, подъема и радости, создавало возможности для общения и отдыха: «Все равно это внутри: труд, май, единение какое-то»20; «Общее ликование. Все одинаково. Знали, что отдохнем, знали, что все пообщаемся, свободно, так сказать»21.
Таким образом, применение цитатного метода заключается в том, что полученные в ходе устных опросов нарративы способствуют воссозданию исторической реальности, освещению тех или иных сторон интересующего явления за счет как фактического, так и оценочного материала.
Полученные в ходе интервьюирования нарративы отражают восприятие широкого спектра исторических событий: от сугубо личных до общегосударственных, что определяет информативный потенциал устных источников, связанный с появлением новых сюжетов и проблемно-тематических полей. Оценочный, а также фактический материал, раскрывающий разнообразные аспекты интересующей темы, способствует ее более глубокому пониманию. В свою очередь, устные воспоминания содействуют изучению субъективности путем применения различных методов и способов анализа, что определяет их методологический потенциал.
Так, в рамках метода устной истории нами применялось глубинное целевое интервью, позволяющее получить подробные сведения на предмет восприятия и чувств респондента, его видения эпохи, когда он реконструирует свое прошлое на основе жизненного опыта, тем самым проявляя субъективность.
Методы и способ анализа устных источников, направленные на изучение оценки и восприятия событий или явлений, а также мироощущения и эмоций, с ним связанных, основаны на применении различного инструментария.
Нарративный метод основан на лингвистической интерпретации текста, осуществляемой с помощью анализа лексики, манеры произношения и конструирования фраз, выделении смысловых доминантов, что позволяет выявить эмоциональную оценку событий, а также настроения и переживания. Особенностью данного метода является то, что анализ текстовых форм помогает проследить контекст, скрытое значение высказывания, тем самым обратиться к чувствам, восприятиям и мнениям, в том числе не транслируемым респондентом напрямую.
Реконструктивный перекрестный способ анализа заключается в том, что с помощью устных свидетельств, сочетающихся с другими видами источников, происходит выявление новых фактов, их подтверждение и детализация, тем самым реконструируется восприятие событий или явлений, что предрасполагает к комплексному пониманию субъективности, в том числе позволяет обратиться к факторам, оказывающим влияние на ее формирование.
Наконец, цитатный метод основан на анализе совокупности высказываний, посвященных тому или иному вопросу, что способствует получению новой информации и ее уточнению, благодаря чему восприятие изучаемого явления освещается с новых сторон.
В итоге, исходя из потенциала реализации методов, направленных на анализ и введение нарративов в научный оборот, применение устных источников для изучения субъективности представляется весьма перспективным.
1 Интервью с Владимиром Васильевичем, 1953 г.р., Тюмень. Записано в 2012 г.
2 Интервью с Михаилом Петровичем, 1950 г.р., Тюмень. Записано в 2024 г.
3 Интервью с Леонидом Андреевичем, 1938 г.р., Тюмень. Записано в 2025 г.
4 Интервью с Татьяной Ивановной, 1956 г.р., Тюмень. Записано в 2011 г.
5 Интервью с Мариной Михайловной, 1964 г.р., Тюмень. Записано в 2024 г.
6 Интервью с Татьяной Александровной, 1952 г.р., Тюмень. Записано в 2024 г.
7 Интервью с Татьяной Александровной, 1952 г.р., Тюмень. Записано в 2024 г.
8 Там же.
9 Интервью с Алевтиной Григорьевной, 1942 г.р., Тюмень. Записано в 2024 г.
10 Интервью с Тамарой Анатольевной, 1940 г.р., Тюмень. Записано в 2024 г.
11 Интервью с Михаилом Петровичем, 1950 г.р., Тюмень. Записано в 2024 г.
12 Интервью с Татьяной Александровной, 1952 г.р., Тюмень. Записано в 2024 г.
13 Интервью с Леонидом Андреевичем, 1938 г.р., Тюмень. Записано в 2025 г.
14 Интервью с Михаилом Петровичем, 1950 г.р., Тюмень. Записано в 2024 г.
15 Интервью с Алевтиной Григорьевной, 1942 г.р., Тюмень. Записано в 2024 г.
16 Интервью с Татьяной Ивановной, 1956 г.р., Тюмень. Записано в 2011 г.
17 Интервью с Тамарой Александровной, 1946 г.р., Тюмень. Записано в 2025 г.
18 Интервью с Татьяной Александровной, 1952 г.р., Тюмень. Записано в 2024 г.
19 Интервью с Михаилом Петровичем, 1950 г.р., Тюмень. Записано в 2024 г.
20 Интервью с Тамарой Александровной, 1946 г.р., Тюмень. Записано в 2025 г.
21 Интервью с Леонидом Андреевичем, 1938 г.р., Тюмень. Записано в 2025 г.
About the authors
Darya A. Fedorova
The Industrial University of Tyumen
Author for correspondence.
Email: shineamber@mail.ru
ORCID iD: 0009-0000-8787-1113
Candidate of Historical Sciences
Russian Federation, TyumenReferences
- Artyomenko, N.A. (2019). Ustnaya istoriya i problema dostupa k travmaticheskomu opy`tu. Studia Culturae. Vy`p. 2 (40). S. 128-138. (In Russ).
- Berdinskix, V.A. (2022). Russkoe krest`yanstvo i ustnaya istoriya. Voprosy` istorii. № 4 (1). S. 264-268. (In Russ).
- Zareczkij, Yu.P. (2021). E`go-dokumenty` sovetskogo vremeni: terminy`, istoriografiya, metodologiya. Neprikosnovenny`j zapas. Debaty` o politike i kul`ture. T. 137. № 3. S. 184-199. (In Russ).
- Korusenko, S.N., & Shheglova, T.K. (2023). Istoricheskaya pamyat` v antropologii i ustnoj istorii. Vestnik Omskogo universiteta. Seriya «Istoricheskie nauki». №4 (40). S. 196=200. (In Russ).
- Popova, O.D. (2023). Istoriya povsednevnosti cherez prizmu ustnoj istorii: vozmozhnosti i problemy`. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya «Istoriya i filologiya». №3. S. 639=645. (In Russ).
- Pushkareva, N.L., & Zhidchenko, A.V. (2025). Social`no-kul`turnoe i semejno-by`tovoe prostranstvo. Vestnik VolGU. Seriya 4. Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodny`e otnosheniya. T. 30. № 1. S. 114=126. (In Russ).
- Rostovtsev, E.A. (2018). Rossijskaya nauka ob ustnoj istorii. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Istoriya. VOL. 63. No. 2. pp. 522-545. (In Russ). https://doi.org/10.21638/11701/spbu02.2018.213
- Rafikova, S.A. (2019). Povsednevny`e praktiki solidarnosti v narrativax sibirskix gorozhan v poslestalinskij period. Vestnik Altajskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. № 4(41). S. 87-92. (In Russ).
- Rafikova, S.A. (2019). Zhivaya istoriya povsednevnosti: sibirskie gorozhane v 1960-e gody`. Krasnoyarsk: SibGU im. M.F. Reshetneva. 484 s. (In Russ).
- Fedorova, D.A. (2016). Dosug zhitelej Tyumeni: 1964–1985 gody`: dis. … kand. ist. nauk. Tyumen`, 250 p. (In Russ).
- Fedorova, D.A. (2024). Formirovanie gorodskoj sub``ektivnosti tyumencev v 1964–1985 gg. (na primere dosugovy`x praktik). Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. No. 3(90). pp. 177-183. (In Russ). https://doi.org/10.69571/SSPU.2024.90.3.024
- Chernyavskaya, V.E. (2016). Proshloe kak tekstovaya real`nost`: metodologicheskie vozmozhnosti lingvisticheskogo analiza istoricheskogo narrativa. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. No. 3 (41). pp. 76-87. (In Russ). https://doi.org/10.17223/19986645/41/7
- Shcheglova, T.K. (2019). Materialy` ustnoj istorii kak istoricheskij istochnik i poiski im mesta v nauchny`x klassifikaciyax rossijskogo istochnikovedeniya v XX–XXI stoletiyax. Vestnik Altaiskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. No. 4 (41). pp. 93-101. (In Russ).
- Shheglova, T.K. (2020). Ustnaya istoriya v rossijskom istoriograficheskom prostranstve 1990–2010-x godov: vy`zovy`, dostizheniya i riski. Istoricheskij kur`er. № 5 (13). S. 8-22. (In Russ).
- Artemenko, N.A. (2020). Oral History, Remembering Practices and the Problem of «Access» to the Traumatic Experience. Corpus Mundi. No. 4. pp. 14-33. doi: 10.46539/cmj.v1i4.30
- Brown, S.R. (2019). Subjectivity in the human sciences. The Psychological Record. 69, pp. 565-579. https://doi.org/10.1007/s40732-019-00354-5. (accessed 12.01.2025).
- Grele, J.R. (2003). Movement without aim: methodological and theoretical problems in oral history. The oral history reader. Edited by R. Perks, A. Thomson. London, New York: Taylor & Francis e-Library. pp. 38-49.
- Lundberg, A., Fraschini, N., & Aliani, R. (2023). What is subjectivity? Scholarly perspectives on the elephant in the room. Quality & Quantity. 57. pp. 4509-4529. https://doi.org/10.1007/s11135-022-01565-9 (accessed 12.01.2025).
- Pinsky, A. (2019). Subjectivity after Stalin. Russian Studies in History. Vol. 58, nos. 2–3. pр. 79–88. https://doi.org/10.1080/10611983.2019.1727714. (accessed 22.12.2024).
- Thompson, P. (1978). The voice of the past: oral history. Oxford, Oxford University Press, 257 p.
Supplementary files