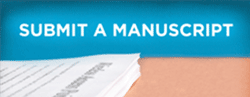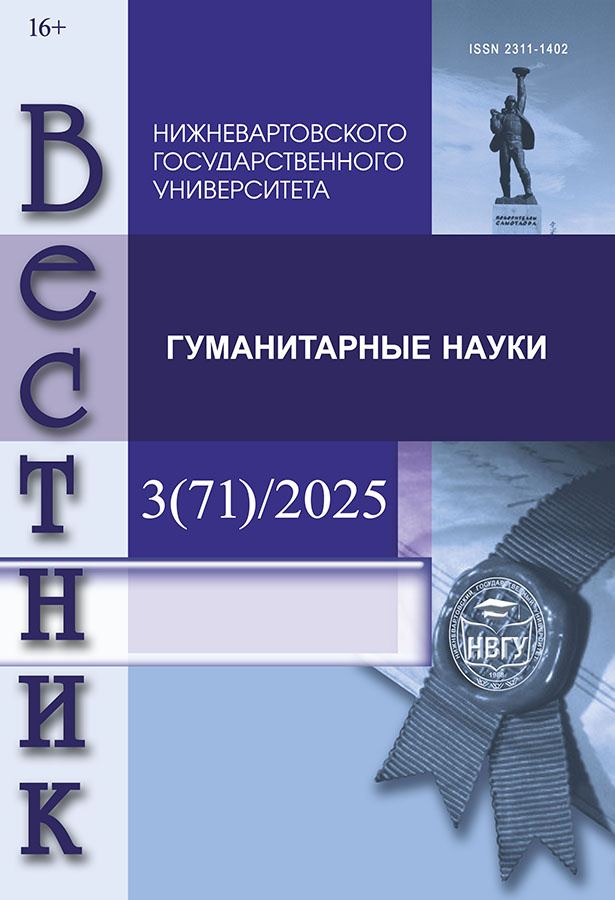“Baibakov minimum” in the theory and practice of industrialization of Yugra
- Authors: Karpov V.P.1
-
Affiliations:
- Industrial University of Tyumen
- Issue: No 3 (2025)
- Pages: 62-70
- Section: Domestic history
- URL: https://vestnik.nvsu.ru/2311-1402/article/view/690565
- DOI: https://doi.org/10.36906/2311-4444/25-3/06
- ID: 690565
Cite item
Full Text
Abstract
The Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug (Yugra) had little interest for the Soviet economy until the discovery of "Big Oil" in the early 1960s. The development of unique deposits led to rapid and full-scale industrialization of the Tyumen North, giving a powerful impetus to the development of the country and helping solve economic, social and geopolitical problems. However, it was not possible to fully dispose of extracted wealth due to a number of factors. One of these is the discrepancy between theory and practice in field development. For example, plans for oil production were violated from the beginning, as were plans to create all necessary production and social infrastructure. This article examines why this happened through the example of a specific planning document, the so-called "Baibakov Minimum", which is a colloquial term for "Mandatory Minimum of Preparation Work to be Completed Before Drilling in a Surveyed Area". N.K. Baibakov, Chairman of the USSR State Planning Committee, signed the document. It prohibited the construction of wells in areas that had been explored without the completion of a mandatory amount of preparatory work. However, this regulation was not followed anywhere in the Tyumen region. The failure to comply with this "minimum" reflected the overall situation of the creation of the oil and gas industry. An attempt was made to identify the mutual influence and interdependence of processes that occurred in the country and region during the 1960s and 1980s, and the plans and results of implementing the Yugorsk project were compared.
Full Text
Региональный вариант фронтирной модернизации
Основным инструментом в исследовании современной региональной истории стала теория модернизации, которую на протяжении уже нескольких десятилетий успешно развивает коллектив учёных Института истории и археологии УрО РАН в Екатеринбурге. Главное содержание социально-экономического развития Югры и Ямала1 уральские историки определяют как региональный вариант фронтирной2 модернизации3. Эта концепция наиболее полно представлена в трудах И.В. Побережникова [10, с. 72-140]. Действительно, Югра и Ямал обладали к началу 1960-х гг. всеми чертами фронтирной (пограничной) территории: уже четыре десятилетия продолжалось их вовлечение в советский проект; оставались неразвитыми производственная и социальная инфраструктура огромного края; очень низкой была плотность населения при отсутствии коммуникаций. Применительно к таким территориям общей руководящей идеей Центра всегда была установка на то, чтобы добиться от них максимальной отдачи при минимуме затрат.
Проблема интеграции в пространство страны довлела над развитием Тюменского севера всю первую половину XX столетия. В самом начале советского проекта обсуждались три возможных варианта интеграции: 1) «туземный», предусматривавший поддержку и максимально возможную степень автономного развития Севера; 2) «эксплуатационный», рассчитанный на скорейшее извлечение высоколиквидных ресурсов Севера для внешней торговли; 3) «ассимиляционный», предполагавший постепенное распространение на Север развитого хозяйства (в основном путем лесопромышленной колонизации). Из этих вариантов первый почти сразу отпал как утопический и рискованный с внешнеполитической точки зрения; второй – мог опираться только на продукцию отраслей промыслового хозяйства; третий – уже к концу 1920-х гг. исчерпал себя из-за перемещения основного района лесозаготовок в Восточную Сибирь, а вывозных лесоэкспортных портов – в устье Енисея [5, с. 60-63, 69]. В результате, был принят усредненный вариант, обернувшийся в дальнейшем медленным восстановлением и совершенствованием отраслей промыслового хозяйства при отсутствии интереса государства к региону как возможному перспективному очагу индустриализации.
На этом фоне особенно контрастно выглядит произошедший на Тюменском севере индустриальный «взрыв», вызванный открытием нефтяных и газовых месторождений. Освоение уникальных месторождений нефти и газа ускорило процесс интеграции периферии в единый народнохозяйственный комплекс СССР, привело к созданию крупнейшего в стране Западно-Сибирского нефтегазового комплекса (ЗСНГК). Стремительное преображение края продемонстрировало определяющее значение для развития Севера его ресурсного потенциала. В большом выигрыше, как казалось вначале, было и государство: Югра (и позже Ямал) стала весомым козырем СССР в ответе на новые вызовы времени. Для СССР это были годы относительно успешного экономического развития в 1950-е – 60-е годы и последующего кризиса, нараставшего со второй половины 1970-х и углублявшегося в 1980-е годы. Именно тогда освоение тюменских месторождений сначала придало новый, мощный импульс развитию страны, а затем «лёгкая» (фонтанная) нефть закончилась, и страна к этому оказалась не готовой, что привело к кризису как в нефтегазовом комплексе, так и в стране в целом.
Нефтяная Югра как зеркало советской экономики
К принудительной добыче, т. е. с помощью станков-качалок, страна оказалась не готовой потому, что широкое применение электронной техники началось в СССР с большим опозданием. На Тюменском севере использовались, главным образом, зарубежные образцы автоматических комплексов нефте- и газодобычи, в чём «виноватой» позднее назвали ту же «большую нефть», отсрочившую модернизацию и нефтегазового комплекса, и реформы в экономике в целом. Очевидно, что торможение темпов научно-технического прогресса стало следствием чрезмерного увлечения закупками импортной техники, оборудования, технологий. В 1970-е – 80-е гг. отставание СССР от мирового уровня в области приборостроения, автоматизации и компьютеризации производства стало видно невооружённым глазом. В этом контексте нефтяная Югра становится фактором не только отечественной, но и мировой истории – Тюменский нефтегазовый север наглядно продемонстрировал, что СССР выпал из мирового тренда научно-технической революции [6, c. 51-61]. Кроме того, Советское государство продемонстрировало свою неспособность использовать открывшиеся возможности на мировом нефтегазовом рынке для успешной реализации проектов модернизации отечественной экономики, ускорения научно-технического прогресса. Колоссальные средства от нефтяного экспорта СССР были потеряны для модернизации самого отечественного нефтегазового комплекса, о чём с горечью пишут ветераны: «Отрасль, на которой держалась вся жизнь страны, сама почти ничего не получила для своего обновления и развития…» [2, c. 216]. Бедой поздней советской экономики стал поиск «новых Самотлоров», а не новых технологий [8, c. 62-64]. Поэтому на практике был неизбежен отход от декларируемых целей и задач – взять богатства Севера не числом, а умением, т.е. с помощью новейшей техники.
«Минимум Байбакова»
Кто виноват в том, что нефтяная Югра «забуксовала»: учёные, плановики, органы власти, руководители нефтяников? Или никто не виноват, потому что в советской системе координат иначе получиться не могло?
Если почитать архивные документы 1970-х – 80-х гг., то складывается впечатление, что во всём виноваты сами нефтяники. Так следовало из резолюций и решений партийных пленумов, конференций, партийно-хозяйственных активов Тюменской и Томской областей. Вышестоящие партийные органы в своих постановлениях и распорядительных документах по ЗСНГК тоже вину возлагали, прежде всего, на Тюмень, на руководителей Главтюменнефтегаза. Но могли ли тюменские нефтяники работать по-другому, если с самого начала разработки месторождений региона руководствовались ошибочным принципом «минимум затрат – максимум добычи», навязанном сверху? Поэтому все объекты, непосредственно не связанные с добычей – дороги, перерабатывающие заводы, аэродромы, причалы, объекты соцкультбыта и т. д. – вводились в строй с опозданием на 5–10–15 лет.
Почему планы и результаты начали расходиться уже на старте проекта, а в дальнейшем диспропорции в развитии нового нефтяного района росли, как снежный ком? Чтобы прояснить вопрос, рассмотрим реальное значение лишь одного планового документа в стратегии и тактике освоения Тюменского севера – так называемого «Минимума Байбакова». Что это за документ? Так нефтяники называли «Обязательный минимум подготовительных работ, подлежащих выполнению до начала бурения на разведанной площади». Документ был подписан Н. К. Байбаковым4 и не разрешал строительство скважин на разведанных площадях без осуществления обязательного объема подготовительных работ.
Николай Константинович Байбаков (1911–2008 гг.) сам был профессиональным нефтяником, 40 лет проработал в правительстве. Он готов был помочь (и помогал!) тюменским нефтяникам, но объективно разорвать порочный круг – несоблюдение подписанного им же регламента не мог и он. Минимум подготовительных работ включал в себя материально-техническое обеспечение буровых работ, водо- и энергоснабжение, строительство внутрипромысловых дорог и линий связи, складских помещений и ремонтно-механической базы, жилья для нефтяников, необходимой культурно-бытовой инфраструктуры. Этот минимум на Тюменском севере, по свидетельству нефтяников, не соблюдался нигде и никогда. Не только в 1964-м – году пробной эксплуатации месторождений, но и в последующие годы.
Общеизвестно, что к началу нефтедобычи в Югре подготовились плохо. Однако результат 1964 года, в котором с югорских промыслов ушли первые 209 тыс. тонн нефти на Омский нефтеперерабатывающий завод, показал, что и без подготовленных должным образом условий можно добиться успеха, вдвое перекрыв плановые показатели. Такая организация дела противоречила «Минимуму Байбакова», но никто за это строго не спросил с тюменских нефтяников. Более того, план тюменцам на 1965 г. был поставлен такой, что они были вынуждены нарушать «Минимум», пренебрегая созданием необходимой инфраструктуры. На это просто не оставалось времени.
Нарушение «Минимума Байбакова», как и последующее пренебрежение прописанным регламентом работ ради быстрого успеха, можно объяснить тем, что государство и нефтяники спешили. Во-первых, нефть нужно было добыть как можно скорее, потому что в условиях Холодной войны она стала одним из главных ресурсов СССР в противостоянии с США. Во-вторых, решили сэкономить на социальной и производственной инфраструктуре из-за ограниченных ресурсов и, опять же, в интересах ускорения процесса создания новой топливной базы СССР. Всё, что не касалось напрямую нефтедобычи, откладывалось на потом. На начальном этапе, до сер. 1970-х гг., за счёт этого получили выигрыш во времени и в ресурсах. Но такая «экономия» обернулась тяжёлым кризисом на следующем этапе – со второй половины 1970-х и, особенно, в 1980-е годы, когда кризис в нефтедобывающей промышленности региона и кризис советской экономики взаимообусловили и взаимодополнили друг друга.
Пока продолжалось время «золотых фонтанов», правительство не обращало особого внимания на отставание производственной и социальной инфраструктуры от основного процесса – нефтедобычи. Стремительный выход Тюмени в лидеры отечественной нефтяной промышленности (в 1974 г. Западная Сибирь обошла прежнего лидера – Татарию по суточной добыче нефти), рапорты о рекордах проходки скважин, о досрочном выполнении планов заслонили копившиеся в отрасли проблемы. И только когда нефтедобыча «повалилась», руководители страны и отрасли спохватились, но инерцию было трудно преодолеть. Из кризиса пытались выйти привычным способом – усилить административный нажим, увеличить поток необходимых ресурсов в нефтяной регион. А такие методы уже не годились – экстенсивный путь развития экономики исчерпал себя, ЗСНГК поглощал всё больше ресурсов страны, они заканчивались, поэтому система «СССР – ЗСНГК» без достаточных людских, финансовых и материальных вливаний извне стала давать сбои. В первой половине 1980-х гг. нефтедобыча всё больше отставала от плановых заданий, которые постоянно менялись в сторону увеличения, несмотря на накопившиеся проблемы. Более того, годовые планы уже не соответствовали пятилетним, а пятилетние – долгосрочным.
Постоянные корректировки заданий, работа «по временной схеме» приводили к большим потерям в экономике, к авариям с человеческими жертвами. Их было много на нефтегазовом Севере. «Подхлёстывание» нефтедобычи, нежелание Центра услышать предупреждения специалистов-нефтяников о грозящей катастрофе обернулись личной трагедией для руководителей тюменских нефтяников, которые понимали, что форсированная нефтедобыча без оглядки на «тылы» закончится бедой, но остановить гонку не могли: темпы диктовал Центр и Миннефтепром СССР. В.И. Муравленко (начальник Главтюменнефтегаза в 1965–1977 гг.) и другие руководители нефтяного главка переживали, получали инфаркты, уходили преждевременно из жизни, видя, как текущие интересы заслонили перспективу развития отрасли, как нарушаются схемы разработки месторождений, как гробится уникальный Самотлор.
Свой первый инфаркт руководитель тюменских нефтяников получил после взрыва на Центральном товарном парке (ЦТП) Самотлорского месторождения 13 августа 1973 г. В огне погибли 13 человек. Авария произошла из-за того, что ЦТП, спешно сооруженный и сданный по временной схеме в 1969 г., не отвечал необходимым пожарным требованиям. Нефтяники вынуждены были работать в аварийной ситуации, «по временной схеме», что и привело к трагедии, о которой страна впервые узнала из газетных и книжных публикаций только через 30 лет после катастрофы. А в те чёрные, августовские дни даже на некрологи в городской газете Нижневартовска «Ленинское знамя» был наложен запрет. Как вспоминал позже ветеран предприятия М.И. Марков, на суде, который проходил в Тюмени, прокурор обвинил его, начальника южного узла ЦТП: «Вы подвергали людей опасности», на что Марков ответил: «Я никого не подвергал. Подвергали меня вместе с рабочими» – «Кто?» – «Все. Начиная от начальника главка и кончая министром» [9, c. 166].
Чем хуже складывалась ситуация в общесоюзной экономике, тем большая нагрузка ложилась на Тюмень, которая должна была компенсировать ростом нефтедобычи нарастающую неэффективность, неповоротливость административно-командной системы управления. «При таком нажиме сверху и огромной нагрузке я больше не могу работать», – вспоминает слова В.И. Муравленко перед его вылетом в последнюю, московскую командировку 15 июля 1977 г. соратник и друг главного тюменского нефтяника С.Д. Великопольский, в 1973–1978 гг. 1-й секретарь Нижневартовского горкома КПСС [3, c. 180]. В тот же день, после посещения министра нефтяной промышленности СССР Н.А. Мальцева Виктор Иванович умер. Его уход стал большой утратой не только для тюменцев, но и для страны.
Самоотверженный труд тюменских нефтяников не мог компенсировать просчёты, допущенные руководством страны. А начались они с несоблюдения «Минимума Байбакова», который был безупречен, как руководство к действию. Но на практике оказался бесполезен.
Результаты индустриализации
В результате индустриализации Югра из классического «фронтира» с неясными перспективами превратилась в лидера отечественной нефтяной промышленности. Из таблицы 1 [1, c. 248] видно, как стремительно росла роль Югры в общесоюзной нефтедобыче.
Таблица 1. Добыча нефти в СССР, Западной Сибири и Ханты-Мансийском автономном округе в 1965–1990 гг., млн тонн
Годы | СССР | Западная Сибирь | ХМАО-Югра | ХМАО в %% к СССР | ХМАО в %% к Западной Сибири |
1965 | 242,8 | 0,9 | 0,9 | 0,37 | 100,0 |
1970 | 359,0 | 31,4 | 28,5 | 7,9 | 90,7 |
1975 | 490,0 | 148,0 | 143,2 | 29,2 | 96,7 |
1980 | 603,0 | 312,6 | 307,9 | 51,1 | 98,5 |
1985 | 595,0 | 368,0 | 361,0 | 60,7 | 98,1 |
1988 | 589,0 | 405,7 | 360,0 | 61,1 | 88,7 |
1990 | 570,5 | 380,1 | 311,3 | 54,6 | 81,9 |
В 1965 г. Югра произвела 0,37% нефти в СССР и 100% – в Западной Сибири, в 1975-м – соответственно 29,2 и 96,7, в 1985-м – 60,7 и 96,7, в 1988-м – 61,1 и 88,7, в 1990-м – 54,6% и 81,9%. Благодаря бурному развитию нефтяной промышленности кардинально изменился экономический профиль не только Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, но и страны в целом. Индустриальный «взрыв» был бы невозможен без развития электроэнергетики, строительства, всех видов транспорта, появления новых городов и посёлков, превративших Югру в один из самых урбанизированных регионов страны. Правда, нельзя не сказать, что облик и инфраструктура новых нефтяных городов свидетельствовали скорее о процессе квазиурбанизации [12]. Тем не менее, округ за четверть века совершенно преобразился – это факт, который невозможно отрицать.
Вместе с тем, в развитии экономики округа виден большой перекос в сторону нефтедобычи. Как видно из таблицы 2 [13, c. 10], удельный вес нефтедобывающей отрасли в промышленности округа вырос с 4,3% в 1965 г. до 83% в 1979 г. В то же время удельный вес традиционных отраслей хозяйства, ключевых в экономике округа к началу создания нефтегазового комплекса, значительно упал: лесной и деревообрабатывающей промышленности – с 64 до 5%, рыбной – с 26 до 0,4%.
Таблица 2. Изменение структуры промышленности Ханты-Мансийского автономного округа в 1960-е – 70-е годы (уд. вес в %)
| 1965 г. | 1970 г. | 1975 г. | 1979 г. |
Вся промышленность | 100 | 100 | 100 | 100 |
В том числе: нефтедобывающая газовая строительная индустрия лесная и деревообрабатывающая рыбная |
4,3 – 1,4 64 26 |
57 2 10 24 4,2 |
80 1,8 5 10 2 |
83 0,2 1
5 0,4 |
Заключение
Несмотря на все противоречия в развитии государства и Ханты-Мансийского округа в 1960-е – 80-е годы, несмотря на справедливые упрёки в некомплексном, однобоком развитии Тюменского севера, ясно, что без открытия Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции у ХМАО-Югры не было будущего. Новый нефтедобывающий район, в свою очередь, стал «спасением» для страны [3, c. 119-120], поэтому извлечение нефти из недр Югры стало общенациональной задачей и она была решена, благодаря мобилизации людских, научных, финансовых, материально-технических ресурсов, имевшихся тогда в СССР.
Соотношение позитивного и негативного эффектов «большой нефти» в развитии страны и региона измерить в цифрах и процентах невозможно. Кроме того, в дискурсе о «сырьевом проклятии» страны нефтяной фактор зачастую рассматривается вне связи с общим вектором развития государства, его институтов, их возможностей, вне контекста времени. Поэтому нередко встречаются не научные, а скорее публицистические оценки того, что было сделано на Тюменском севере в годы позднего социализма. Так, последний начальник Главтюменнефтегаза В.И. Грайфер пишет в предисловии к книге М.В. Славкиной: «…политическое руководство страны 1970-х гг. оказалось неспособным грамотно воспользоваться результатами великой победы советского народа в Западной Сибири. Это грустно, но это правда» [4, c. 6-7]. А в чём правда? В том, что прорыв нефтяников в Западную Сибирь оказался триумфом, а итог освоения месторождений – «трагедией» [11, c. 7]? Но у советской модели экономики были свои преимущества и свои недостатки, которые нельзя рассматривать по отдельности, они реализовались как целое. А для историка важен феномен целостности. Поэтому нет смысла переживать о не сбывшихся ожиданиях, связанных с созданием ЗСНГК: индустриализация Югры состоялась со всеми вытекающими последствиями для региона и для страны, со всеми достижениями и просчётами. И иначе этот проект не мог быть реализован в тех исторических условиях, в рамках централизованной и директивной экономики, выстраивающей отношения с регионами по степени их полезности для страны, с установкой: минимум затрат – максимум отдачи.
1 Термин «Югра» – условное название Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), термин «Ямал» используется как синоним названия «Ямало-Ненецкий автономный округ» (ЯНАО). Оба округа были образованы как национальные в 1930 г. Ханты-Мансийский округ до 1940 г. носил название «Остяко-Вогульский». На Югру и Ямал, входивших с 1944 г. в состав Тюменской области, приходилось 87% её территории.
2 Фронтир – рубеж или граница, за которой начинается неосвоенная территория.
3 В данном контексте под модернизацией понимается глобальный переход от общества аграрного, традиционного, патриархального к обществу индустриальному, городскому, современному.
4 Председатель Государственного комитета химической и нефтяной промышленности при Госплане СССР – министр СССР (с марта 1963 г. по октября 1965 г.). С октября 1965 г. по октябрь 1985 г. – заместитель Председателя Совета Министров СССР, Председатель Госплана СССР.
About the authors
Viktor P. Karpov
Industrial University of Tyumen
Author for correspondence.
Email: 7654321.58@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-3527-9692
Doctor of Historical Sciences
Russian Federation, TyumenReferences
- Vakhitov, G.G. (2012) Neftyanaya promyshlennost' Rossii: vchera, segodnya, zavtra. Opyt razrabotki mestorozhdeniy uglevodorodov v 1950–2012 gg. M., VNIIOENG. 400 s.
- Velikopol'skiy, S.D. (2024) O tovarishchakh i druz'yakh s lyubov'yu. V 3 chastyakh. Chast'. 3. Tyumen', Istina. 384 s.
- Grayfer, V.I. (2007) Predisloviye // Slavkina M.V. Velikiye pobedy i upushchennyye vozmozhnosti. Vliyaniye neftegazovogo kompleksa na sotsial'no-ekonomicheskoye razvitiye SSSR v 1945-1991 gg. M., Nauka. S. 6-7.
- Zubkov, K.I., & Karpov, V.P. (2019). Razvitiye rossiyskoy Arktiki: sovetskiy opyt v kontekste sovremennykh strategiy (na materialakh Kraynego Severa Urala i Zapadnoy Sibiri). M., Politicheskaya entsiklopediya. 367 s.
- Karpov, V.P. (2013). Neft', politika i nauchno-tekhnicheskiy progress. In EKO. No. 9, pp. 51−61.
- Karpov, V.P. (2014). "Eto bylo spaseniyem!" (K 50-letiyu Zapadno-Sibirskogo neftegazovogo kompleksa). In Neftyanoye khozyaystvo. No. 5, pp. 119−120.
- Kryukov, V.A. (2013). Vmesto novykh tekhnologiy – «novyye Samotlory». In EKO. No. 9, pp. 62−64.
- .Patranova, V.V. (2007). Trevozhnyye nochi Samotlora. Zapadnaya Sibir': istoriya poiska. 1940–1975 gody. M., ID «Zimorodok». S. 160-168.
- Pikhoya, R.G. (Eds.). (2024). Akademicheskaya istoriya Yugry: v 8 t. Т. 7. Khanty-Mansiysk, Izd. Dom «Novosti Yugry». 720 s.
- Poberezhnikov, I.V. (2017). Paradigma modernizatsii, istoricheskiye transformatsii, regional'noye razvitiye. Rekonstruktsii mirovoy i regional'noy istorii: ot universalizma k modelyam mezhkul'turnogo dialoga. M. S. 72-140.
- Slavkina, M.V. (2002). Triumf i tragediya. Razvitiye neftegazovogo kompleksa SSSR v 1960-1980-ye gody. M., Nauka. 220 s.
- Stas', I.N. (2016). Ot poselkov k gorodam i obratno: istoriya gradostroitel'noy politiki v Khanty-Mansiyskom okruge (1960-ye – nachalo 1990-kh gg.). Surgut, Defis. 258 s.
- Ekonomika i kul'tura Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga za 50 let (v tsifrakh). (1980). Khanty-Mansiysk. 12 s.
Supplementary files